– Поэтому вы, кхе, кхе, ах…
Лурджев терпеливо ждал, пока пауза на кашель пройдет.
– Вводитесь на роль… (теперь пауза уже драматическая!) Эзопа. Фактура ваша позволяет это. Вы – артист с большим опытом работы, спектакль знаете. Учите текст, будет несколько репетиций. Гастроли через две недели. Успеем.
– А, а… как, Аг…
– На роль Агностоса тоже будет ввод – Уматов. Ну, я вас, кхе-кхе, больше не задерживаю. Идите, учите роль. Поздравляю.
Геометрическая фигура распалась на составляющие. Или показалось?.. Глаза заволокло влагой…
– Идите же, идите. – Главреж подошел к окну. На карнизе сидел жирный сизый голубь и бил клювом в стекло.
– Сейчас, обжора, – грубовато-ласково сказал главреж и высыпал на карниз хлебные крошки.
– Спасибо, – пробормотал Лурджев.
– Идите, работайте. Роль серьезная.
Первым в коридоре он увидел Д. Тот словно ждал его.
– Ну, что? Что сказал?
– Меня вводят на Эзопа.
В глазах Д. мелькнуло что-то вроде священного ужаса.
– Да ну!! Рад, рад за тебя! Очень! Это, это птица удачи, ей-Богу! – У Д. было амплуа резонера и он привык выражаться патетически.
Весть разлетелась стремительно. Горящие глаза Двуликого Януса устремились на Лурджева, и трудно было определить, чего в них больше: зависти, радости, или недоумения. Некоторые шептали, что все потому, что на недавнем спектакле Лурджеву в башмак вонзился гвоздь. А кто же не знает, что найти гвоздь на сцене – к неслыханной удаче. А уж если он тебе пробил башмак!..
Две недели до гастролей были адом! Но адом Дантовым. Страшным и дивным. Никогда еще Лурджева не переполняло такое чувство единения с прекрасным. Сопричастность была, но единение, такого, чтобы на охват души, до глубины сердца – не было. А тут…
Роль давалась нелегко; уродливый и мудрый баснописец Эзоп, в кого Лурджеву предстояло переродиться, ускользал, рассыпался в наборе реплик. Рисунка не было. Красавица Клея и хвастливый Ксанф в открытую потешались над ним. Он ощущал это в насмешливых полупрезрительных взглядах, и холод пронизывал его, затекал под грубое рубище костюма. Актеры, актеры, что же вы так к своему собрату?.. Хотя…
– Роман! – Главреж властным жестом остановил репетицию. Шел пятый час шестого дня мучений.
– Вы у нас кто? Эзоп? А он кто? Раб, который хочет стать свободным, верно?
Лурджев подошел к раю сцены. Рубище нестерпимо натирало шею. Надо будет сказать костюмеру, пусть переделает ворот.
– Да.
– Что, да?
– Раб, который хочет стать свободным.
– Нет! – взвизгнул главреж. – Неверно! Он не хочет стать свободным, он уже свободен. И неважно рубище ли на нем, или расшитая хламида, он свободен духом своим. Поэтому так естественно звучат его последние слова: «Где ваша пропасть для свободных людей?» Покажите это. Они, – он указал в сторону остальных персонажей, – они недостойны его, они мелки для него, и они больше рабы, чем он, урод в жалком тряпье. Его обвиняют в воровстве светильника из храма и говорят, что, если он признает себя рабом хотя бы для вида, его отпустят, потому что преступление раба не считается грехом. Раб – собственность хозяина, вещь, инструмент, и хозяин волен сохранить или выбросить свою вещь. А вот для свободного человека воровство из храма наказуется смертью. Таких ждет пропасть. И тогда Эзоп спрашивает: «то есть для того, чтобы сохранить жизнь, я должен признать себя рабом?». И, конечно, выбирает свободу, то есть пропасть. Понятно? Сыграйте, убедите меня в этом, дайте мне высоту, он же не в пропасть падает, он из пропасти возносится в высоту, которую им никогда не изведать!
Последние слова были опять обращены в сторону. Клея грызла яблоко, Ксанф дремал, прислонившись к декорации, Агностос-Уматов, которому тоже немало доставалось за недостатки в игре, радовался, что на сей раз гроза прошла стороной.
– На сегодня все! – махнул рукой главреж. – Завтра в 11.
– В 11 не могу, – отозвалась артистка-Клея. – Я к зубному завтра. Пробуду там до двух.
– Безобразие, – грустно отозвался главреж, – почему я об этом узнаю только сейчас? Хорошо, тогда в три. Но, учтите, будем работать до вечера, пока не сделаем спектакль.
– Подвезти? – участливо окликнул Лурджева из машины Д. – Садись, подброшу до метро. – Холодно сегодня.
Тот помотал головой.
– Спасибо. Пройтись хочу.
– Ну как знаешь. Долго не ходи, а то застудишь в себе Эзопа! Главный голову открутит!
И, хохотнув собственной остроте, уехал.
Лурджев шел, внимательно глядя себе под ноги – давняя детская привычка. Сколько себя помнил, мать постоянно одергивала его: «смотри под ноги», «не горбись», «не торопись», переходя улицу, посмотри сначала налево, потом направо», не ешь на ходу», «не опережай события». Да разве я когда-нибудь опережал события, мама?..
Ноги сами привели его на набережную. Зимняя река лениво колыхалась в каменных берегах, и вода ее была темно-изумрудной, почти черной. В ней как в непрозрачном стекле отражалась память, и гасли старые обиды.
Лурджев любил вид воды: реки, озера, моря, родники, водопады. Жаль, океанов не было еще в его жизни, но как знать… Города, где не было водоемов, казались ему глазами прозревших слепцов: они видят, но света в них нет.
Вода вызывала в нем какое-то первобытное чувство: символ времени, в которое можно погрузить руки и смотреть, как медленно стекают по пальцам капли-воспоминания. Как там говорил главреж: «Покажите мне свободного человека!» Как?
Со дна реки-памяти тяжело плеснуло воспоминание. Он старался никогда не ворошить его, но сейчас оно услужливо омыло сердце…
… Искаженное злобой лицо отца приближалось к нему, восьмилетнему, перепуганному:
– Ты взял у меня из кармана десятку? Говори! Вор!
Из глаз посыпались искры. Соленая волна обожгла рот.
– Говори! Или еще раз врежу! Не лезь, мать!
– Ромчик, ну, скажи, – заплакала мама. – Скажи, что ты взял! Он не тронет больше.
Роман молчал. Он не брал никаких денег и не хотел оправдываться.
– Волчонок! – отец еще раз занес руку, но вдруг сплюнул и, резко повернувшись, вышел из комнаты. Мать кинулась к сыну, плача, вытирала кровь, что-то говорила. Он молчал.
– Это не я, – выдавил он, наконец.
– Но… – начала она, и осеклась, встретив взгляд сына.
– Ну, хорошо, хорошо, не ты, только успокойся.
Отец не разговаривал с ним неделю. А потом случайно в кармане старого пиджака нашел злополучную десятку.
– Это что же, я сам забыл, получается? Голова дырявая. А на пацана зря налетел.
Еще неделя прошла в безуспешных попытках отца помириться. Роман был тих, вежлив, но на сближение не шел.
Мама осторожно обняла его своими мягкими руками.
– Ты бы помирился с папой, а? – начала она. – Он сам не свой. Переживает очень. Он ведь тебя любит очень, это он не со зла, ты же знаешь. Помирись, сыночка. Ой!
Она вздрогнула. На нее смотрели глаза взрослого человека. Ее взрослого восьмилетнего сына. Сердце ее сжалось.
– Все будет, хорошо, сыночка, – прошептала мать. – Не держи обиды. Будь сильнее. Выше.
И, выходя из комнаты, отозвалась эхом:
– Выше…
…Река глухо заплескалась, забилась в берега. Лурджев поежился. Пора было домой...
На следующий день… О, в этот день, все боги Олимпа незримо слетелись, чтобы поздравить Лурджева с успехом. Он был феерический! Народный Ф., специально явившийся на репетицию, чтобы убедиться в своей незаменимости, растерянно вжался в кресло. Слепому было ясно, что отныне в спектакле два состава, и не факт, что он, Народный, останется в первом.
Главреж обнял Лурджева.
– Вам удалось выжать слезу из завтруппой, – подмигнул он. – Ладно, вы всех нас уложили на лопатки своей игрой, но чтобы завтруппой прошибить, это, не подберу слов… Я рад, что не ошибся в вас, и спокоен за гастроли. Так и работайте.
Лурджев улыбнулся и только сейчас понял, как он устал. Поздравления остальных шумели в его мозгу как недалекие уже волны Эгейского моря. Молодой Уматов ревниво оглядывался по сторонам, не перепадет ли похвал и его персонажу. Перепало. Похвалили.
– Старик! – Д. сиял искренней улыбкой. – Это было что-то, скажу я тебе! Завтруппой рыдала, завтруппой! Это же не человек, это гранит. А на твоей реплике «Где ваша пропасть для свободных людей?» обливалась слезами.
– Да ну, – отмахнулся Лурджев. – Какое там, рыдала… Несколько слезинок уронила и все. И не на этой реплике, а на другой: «Да, не померкнет твоя красота, Клея, да сохранят ее боги».
– Несколько слезинок? Да, для нее это водопад рыданий! Вспомнила бабка, как девкой была. При Народном никогда ни вздоха, ни всхлипа, а тут… Поехали, отметим.
– Рано. Вот отыграем гастроли, тогда уж…
Д. посерьезнел.
[justify]– Пройдут блестяще. Это я тебе говорю. А я понимаю в этом деле. Только не сбейся, не виртуозничай, а так и играй. Как сегодня. Поехали, отметим, а после гастролей – по новой. Как-никак, твоя премьера будет в






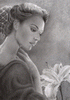





 Обнимаю.
Обнимаю.



Какая правда! Как психологически верно! Эту актёрскую кухню нужно знать. Нафантазировать её невозможно. Склоняюсь к тому, Ляман, что вы меня разыграли про осветительский цех. Стыдно, Ляман, стыдно, коллега!))) Но если всё же виной этому рассказу «лишь» наблюдательность и писательский талант, тогда я ваще в отпаде! ❤️❤️