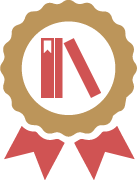Полозковой, является вот это:
Тяжело всю жизнь себя на себе нести.
За уши доставать из себя, как зайца.
От ощущения собственной невъебенности
Иногда аж глаза слезятся.
Тут присутствует небольшой элемент первого обоснования уместности мата — остроумное его использование. Помимо прочего, слово «невъебенность» — это что-то объёмное, огромное, гораздо больше чем «мощь», например. Собственное, именно из Веры Полозковой можно привести ещё несколько подобных примеров, где искренность и уместность употребления нецензурных выражений перевешивает весь исходящий от них негатив.
Пример 3. Техническое употребление. Случается так, что в стихотворении не хватает слога. Юный и неумелый поэт в таком случае впихивает в стихотворение частицу «уж», например, или ещё какое-нибудь мусорное слово. Поэт же высокого уровня может позволить себе употребить и какое-нибудь разговорно-нецензурное словечко, если оно, конечно, вписывается в стихотворение с точки зрения смысла и стиля.
К сожалению, я не сумел найти именно мат, используемый в такой ситуации. Но пример умелого употребления не мата, а просто вульгаризмов легко найти у Олега Медведева, песня «Красные сапоги»:
А я молодец, блин, я кончил свою тоску,
Хоть сам уже думал, что развалился в хлам,
Как пьяный казак, блин, ой шашкою на скаку,
Как пьяный казак, блин, с маху да пополам.
Я Лаокоон, блин, в серых узлах дорог,
А я выпью еще, блин, — сделаюсь сыт и пьян,
Так молния с неба ёкнула в бугорок,
Так кончились песни — можно порвать баян.
Здесь вульгарное «блин» подчёркивает фольклорный элемент в песне и заполняет размерную дырку в строке. Кстати, у Медведева мат встречается раза два, кажется, или три (не считая...хм...не будем о весёлом :)), и один из них — в качестве цитаты:
Ввалившись в прокуренное зимовье, рычал из спутанной бороды,
Что смысла не было, бля, не было, туды-растуды.
Здесь слово «бля» и затыкает дыру в строке, и подчёркивает «цитату», слова героя после вваливания в прокуренное зимовье с мороза.
Пример 4. Хм... Просто смехахаханьки. Очень редко бывает так, что читаешь матерное стихотворение, а оно — смешное. Потому что матерное. Просто смешное, и всё. Иногда остроумное, иногда нет. Но радует.
Как пример подобного — вот стихотворение Игоря Вишнякова, над которым я долго смеялся (над стихотворением, конечно). Только читайте по порядку, вдумчиво, с начала до конца, медле-е-енно.
Ебутся собаки,
Ебутся коты,
Ебутся макаки,
Ебутся кроты,
Ебутся пингвины,
Ебутся слоны,
Ебутся удавы
Различной длины,
Ебутся деревья,
Ебутся цветы,
Ебутся коряги,
Ебутся кусты,
Ебутся машины,
Ебутся дома,
И мыши Ебутся
В пустых закромах,
Ебутся шофёры,
Ебутся ткачи,
Ебутся шахтёры
И злые врачи,
Ебутся эстонцы,
Ебутся испанцы,
И даже ебутся
А-Американцы,
Ебутся детали,
Ебутся запчасти,
Ебутся все органы
Тела и власти,
Ебется планета
И весь небосвод
А Я НЕ ЕБАЛСЯ УЖЕ ЦЕЛЫЙ ГОД!!!
Не знаю, как вам, а мне было смешно. Называется, писал человек «из наболевшего» :)
Вот, наверное, и всё. Тупо вставить слово «хуй» в песню легко. Слово маленькое, где угодно можно разместить. А вот разместить его так, чтобы оно несло какую-никакую смысловую нагрузку и не было чужеродным элементом, чтобы веселило, а не раздражало — это ещё нужно постараться.
Поэтому: не умеете — не материтесь, господа и дамы :) Если же кому-то что-то не нравится, милости прошу сюда.
ЗНАКИ-ПРЕПИНАКИ
У многих современных поэтов есть одна болезнь: нежелание ставить знаки препинания в связи с неумением их ставить. А ведь знаки препинания — это такие же полноправные участники языкового процесса, как и буквы. Без них текст выглядит убого и голо. Почему-то в прозе знаки препинания ставятся всегда. Все писатели — от классиков Тургенева или Толстого до нелюбимых мной модернистов типа Сорокина; от фантастов Лукьяненко или Олди до авторов попсовых детективов вроде Устиновой — все ставят знаки препинания. И ставят их, чёрт побери, грамотно. Даже если это делается не самим писателем, это делается корректором. И вот тут я не понимаю, почему в поэзии, которая является не менее важным литературным слоем, чем проза, многие не считают необходимым опуститься до синтаксической составляющей.
Первая и основная причина необходимости расстановки знаков препинания — это упрощение прочтения и понимания. Именно так. Стихотворение, грамотное с позиции синтаксиса, читается гораздо легче. Читатель знает, где необходима пауза, где следует какое-то перечисление, где заканчивается фраза или какая-либо логическая часть стихотворения. Для декламации знаки препинания — это вообще незаменимая вещь. Чтец гораздо глубже может проанализировать грамотное стихотворение для лучшей декламации.
В последнее время широко распространилась методика написания стихотворений «в строчку». Очень многие сильные поэты пишут именно таким образом. Это многократно мной рекламируемые Алина Кудряшева, Вера Полозкова, Кристина Эбауэр. Некоторые приходят к такой методике стихосложения со временем, например, Анастасия Винокурова, да и я сам. Главное — не забыть, что стихи пишутся ещё и «в столбик» :) Поэты старшего поколения редко обращаются к такой методике, но весьма близко к ней лежит поэзия, например, Геннадия Жукова («Речитатив для дудки»). Хотя вопрос не в этом. Если при написании «в столбик» естественные паузы ещё кое-как создаются разрывами строк, то при написании «в строчку» они сглаживаются, и знаки препинания становятся единственными помощниками читателя.
В своём собственном творчестве я дважды счёл необходимым обойтись без знаков препинания. Первый раз — в дурацкой песне «Грешники», где отсутствие знаков препинания преследует конкретную цель. Куплеты поются однообразным монотонным речитативом на одной ноте без пауз и разрывов, и безо всяких эмоций. В припеве, где нужно немножко поиграть голосом, знаки препинания есть. Песенка написана так давно, что я храню её текст только для истории, конечно, такие вещи уже давно не поются. Но из неё можно вывести один постулат.
Мы имеем право опустить знаки препинания, если хотим подчеркнуть монотонность и безэмоциональность произведения для декламатора.
Второй раз я обошёлся без знаков препинания в более свежей песне «Мясная машина», написанной по произведениям Владимира Сорокина и вызвавшей в своё время резонанс среди поклонников его творчества. Опять же, в «Мясной машине» я преследовал цели демонстрации бессмысленности, монотонности всего происходящего.
2/360, то есть порядка 0,55% — вот и всё отсутствие синтаксиса во мне любимом. И, по-моему, это нормальный процент. Крайне редко получается стихотворение, в котором отсутствие синтаксиса призвано что-то подчеркнуть.
Самые глупые оправдания, которое придумывают молодые (и не очень молодые) поэты дабы оправдать отсутствие запятых и точек:
— «я вышел за рамки знаков препинаний!» = я не умею их ставить
— «они меня ограничивают!» = я не умею их ставить
— «я не считаю их необходимыми!» = я не умею их ставить
— «я не умею их ставить...» — это хотя бы честно, но оправдание так себе: нужно учиться писать грамотно. Lingva latina non penis canina est.
Есть ещё один странный предлог. Люди говорят: «Мои стихи гораздо лучше выглядят без знаков препинания, чем с ними». Ответ на это — один-единственный. Если вы говорите так, значит вы — хреновый поэт, и не стоит больше заниматься графоманией. Знаки препинания могут только улучшить стихотворение. Если они его ухудшают, значит, они сами по себе лучше, чем ваш опус. А уж если знаки препинания лучше вашего опуса, то я представляю себе, что там за опус...
Кстати, всё это касается ещё одного параметра — заглавных букв. В поэзии заглавные буквы должны быть обязательно в начале каждого предложения, то есть после точек, восклицательных и вопросительных знаков, многоточий и т.д. Там же, где и в прозе. Если вы пишете не в строчку, лучше всего сделать заглавными буквы в начале каждой строки, опять же, это соответствует неким сложившимся нормам поэзии. Впрочем, последнее не обязательно: к примеру, Бродский обходился без этого. Если же вы по каким-то причинам решили обойтись без знаков препинания, заглавные буквы просто обязательны, чтобы хоть как-то разграничить фразы.
Вот и всё. Это были просто мысли, связанные с присылаемыми мне на рецензирование стихами.
ПОЭЗИЯ С РЕЛИГИОЗНЫМ УКЛОНОМ
О ПЛОХОМ.
Эх, чёрт побери, графоманы плодятся как грибы. И каждый, подчёркиваю, каждый хреновый поэт считает своим святым долгом написать как минимум 3 стихотворения на религиозную тематику. Особо хреновые поэты стараются написать не менее 20 подобных стихотворений. При этом я не ругаю саму тему: тема интересна и широка, на неё можно столько написать, что ого-го, но, тем не менее, большая часть поэтов ограничивается бессмысленным пересказом Библии и иже с ними.
Иногда подобные господа и дамы присылают мне на рецензию стихи. Я им пишу: хреново, Гадя Петрович Хренова чистой воды. Потому что это за 2000 лет до вас написали, ничего нового вы не придумали. А они начинают спорить, причём самым основным аргументом в споре является: «ты не понимаешь Библию, ты не читал Библию, ты агностик» и так далее. Что ж. Я читал Библию. Которую вышеупомянутые поэты не писали. Я сужу не Библию, которую судить не имею ни малейшего права, а их опусы, которые имеют отношение в первую очередь к плохой поэзии.
Итак, плохие религиозные стихи делятся на три группы. Если ваше стихотворение по всем параметрам попадает в одну из этих групп, лучше спрячьте его подальше и не показывайте никому: у вас вышла лажа.
1) Пересказ Библии. Самая распространённая группа. Огромное количество молодых виршеписцев просто читает Библию и зарифмовывает отдельные сюжеты из неё. Это сделано столько тысяч раз, что уже не сосчитаешь. Лучше от этого никому не становится. Это называется: воображение туговато работает, взял готовый сюжет, налепил рифм, обычно примитивных, вот и вышел человечек.
2) Мне было плохо, но я познакомился с Иисусом и мне стало хорошо. Второй по распространённости сюжет отвратительного стихотворения на тему религии. Этот сюжет был распространён даже во времена Пушкина, но тогда он был по меньшей мере свеж и оригинален. Теперь он избит, истерзан толпами бумагомарак и всячески изувечен множеством корявых рифм и ритмов. Он немножко варьируется: герою может стать хорошо не только после того, как он знакомится с Иисусом. Он может прийти в церковь, прочитать Библию, познать откровение и иже с ними. В итоге всё обычно сводится к морали: придите в церковь, и будет вам счастье. Это всё, конечно, верно, но