Приближался закат, буреющим заревом, нависая над взволнованным морем. Вилсон, как фурия носился отдельно от своего хвоста, пытался его догнать, вздымая белый песок, разбрасывая лапы в стороны и от восторга попискивая. Вдруг, откуда не возьмись, рядом с ним появилась во всей песьей красе, белоснежная чаровница, с кокетливой игривостью, помахивающая хвостиком перед его носом. А рыжий, резко остановившись, словно в замерзшей отупелости, уставился на нее, не понимая, откуда здесь взялось это чудо, но не дождавшись ответа, от вконец отупевшей головы, сорвался в бешеный аллюр, вздымая брызги воды у самой кромки берега.
– А вы не пробовали запивать балтийский закат, застынувший в дюнах и размазанный мутноватой взвесью тумана, охлажденным шампанским?
Инна, ничего не говоря, смотрела на него, и пила... пила…не могла напиться словами, повисшими в воздухе вместе с вложенным в них смыслом, который уже... Да, уже... только им двоим понятным. Уже, потому что приходило импульсами всех органов чувств понимание восхитительной, неизвестной, неизбежной мелодии смысла их встречи: он ее видел... тогда в кафе, уже знал, искал… нашёл... Не смея прервать мгновение объединяющей, поющей тишины, оба вслушивались в беззвучный шелест песка, исходящий из-под лап, очарованных любимых псин: рыжей и белой.
 Край сосен, заколдованных болью.
Край сосен, заколдованных болью. 1994г.
Мутное сознание, выползающее из прохладного моря, вело его меж сосен далекого края… звучанием органных труб… по холодящему сырому песку босиком, ощущая кожей стоп сосновые ресницы, застревающие между пальцев. Откуда-то сверху, капельки солнца, осыпали янтарной вечностью с ног до головы качающееся тело. Край, все больше вырисовывал в его сознании, голубоватыми штрихами поля, уходящие за горизонт, и растворяющиеся в мерцающих сумерках. Безлюдный край безысходного одиночества, затянутый прозрачной ледяной тканью, проявлял пробуждающим разумом какие-то ямы, по краю поля проселочной дороги. Остановившись на высоком берегу незнакомой реки, в полной беззащитности вглядывался в притягивающую сознанием бескрайность щемящего одиночества… Откуда - то издалека стали выплывать поблёскивающие на солнце купола маленьких церквушек…
До боли знакомый край становился все дальше, недоступнее, превращаясь в застывшую литографию, с очертаниями, напоминающими прохладное балтийское лето, унылое, не имеющее морского солоноватого запаха моря и водорослей. Застывшие тысячелетние слезы сосен падали сверху тяжелыми каплями на его грудь, но каждый удар отдавался страшной болью где-то там... дальше, где должны быть ноги… должны… должны быть.
Уехал я из детства, мама!
Но возвращаюсь в никуда,
А колокол внутри упрямо
Всё убивает... навсегда.
Тону в песках я, дорогая!
Блуждаю я в кромешной тьме…
Себя теперь не узнавая…
Закован вечностью в тюрьме.
Ты плакала, ты умоляла,
Но я был дерзок и упрям;
Меня все дальше увлекало
Ходить по адовым кругам.
От внезапного озноба начало сотрясаться тело, мерзнуть пальцы, слезиться глаза так, словно остановилось дыхание от кома в горле… теперь ясно понимал – это была Родина. Тоска по ней. Он открыл глаза…
– Доктор, он очнулся! Срочно позовите врача! – санитарка металась между сестринским постом и больным, который порывался встать, и всякий раз, не ощущая опоры, падал в изнеможении.
– Зачем, зачем вы встаете?! Вам нельзя. Нельзя, - причитала, придерживая его всем своим худеньким телом.
– Отпустите, я хочу встать… Не мешайте!
– Сейчас, сейчас… вот доктор…
– Это кто у нас тут буянит? Ай да молодчина! Не успел очнуться, и уже рвётся в бой.
– Ну-с, молодой человек, как мы себя ощущаем? – пристально всматриваясь в глаза, доктор поводил перед ними двумя пальцами. Вот и чудненько! Вы меня видите, слышите, и сейчас сестричка вам поставит капельницу – она вам прибавит сил, и потом мы с вами побеседуем, а пока настоятельно рекомендую и, даже, требую немного помолчать. Вы со мной согласны? – улыбнувшись, доктор погладил его по руке.
Смирившись, он слегка кивнул в знак согласия, и тут же снова закрыл глаза. Врач не отходил, пока ставили капельницу, и потом еще несколько минут наблюдал за реакцией очнувшегося после семичасовой операции, и тяжелейшего наркоза. Когда больной начал спокойно дышать и стал засыпать, доктор оставил его на попечение милой темнокожей сестрички. Через полчаса из палаты раздался её истошный крик:
– Доктор, доктор, он бредит! Он бредит и, кажется, плачет, плачет, и вон… слушайте, – она промокнула салфеткой испарину, выступившую на лбу больного, лихорадочно читающего стихи, по щеками у него текли крупные слезы… а он их глотал, глотал, не прерывая чтение.
Скорби, мой край! Ты потерял меня.
Рыдайте сосны, заколдованные болью.
Не осыпайте пустоту морскою солью.
К вам больше не приду… не ждите зря.
Нам больше не тонуть, родная Инн,
Низвергнутыми водопадом фуги Баха.
С тобой прощаюсь я, любовь моя…без страха.
Я раб судьбы, и рок мой господин.
Обвисла царственная тога… плебс,
Растерзанный среди готического стиля,
А прах от пламени аутодафе над шпилем,
Несет мой свет тебе, как верный Феб.
Годдард - француз, высокий седовласый мужчина, за свою сорокалетнюю врачебную практику, видавший столько болей и страданий, и последствий, выраженных поведением людей приговорённых страшными болезнями, до глубины сердца был поражен тем, как вел себя этот благородный молодой человек. Растерзав свою начинающую самостоятельную жизнь, бросив её на борьбу против страдания совершенно чужих ему людей, других стран, веры, отложив на потом... все самое светлое, присущее молодому, одухотворенному, чувственному разуму.
– Нет, Камария, он не бредит… Это его неприятие разящего копья понимания пишет стихи… Таким как он не надо ничего объяснять и успокаивать, они по своему решают свои проблемы, переводя их в ранг высшего понимания, вначале падая вместе с ними в глубокую пропасть, проживая там всем своим существом, смирившись, вяло позволяя себе жить, но… Но потом они взлетают… И так высоко взлетают, что эта самая пропасть им кажется маленькой ямкой: никчемной, незначительной, как с высоты звездного чистого неба. А знаешь почему, Камария? – приобняв девушки по-отечески, ласково спросил, глядя в глаза.
– Нет, не знаю, - ответила молодая сестричка, приехавшая два года назад в этот госпиталь из Йоханнесбурга, глядя на элегантного, солидного врача, далеко не глазами дочери, а влюбленной, преданной молодой женщины.
– Потому, милая девочка, что такие нужны людям. Необходимы. И просто не имеют права их покидать. А пока, пока… - горько задумавшись, - пусть пишет сердцем стихи… Это он так учится жить заново. Он победит. Годдард сжал руку больного, спрашивая, глядя в лицо:
– Не так ли, Тоомас? Да, там к вам пришли из Российского посольства. Разрешаю минут пять... не больше.
– Пожалуйста! Не надо пока… Не хочу. Пока сам ничего не знаю о себе новом… Не понимаю… Благодарю за это малословное понимание, и за то, что не стали мне объяснять ситуацию, а заставили самому все осознать. Поверили в меня. Больше не могу говорить… Извините.
– Мы еще поборемся, молодой человек! Это будет интересная борьба, тяжелая, но интересная, я вам обещаю, черт её возьми.

Серебряное звучание звездных колокольчиков, или...
Следы, уходящие в далекие дюны... пугающего мира.
1993 год.
– А вы не пробовали запивать балтийский закат, застынувший в дюнах и размазанный мутноватой взвесью тумана, охлажденным шампанским?
Она смотрела на него и пила, пила…не могла напиться его словами и, вложенным в них... уже только им двоим понятным смыслом. Понимала, что он ее видел, знает, ищет… нашёл. Не смея прервать мгновение тишины, оба слушали беззвучный шелест песка из-под лап, друг другом очарованных псин: рыжей и белой.
Но внезапно очнувшись из плена наваждения, смутилась, и быстро пошла вдоль берега в сторону города, а ее белое ситцевое платье игривым ветром, развевалось парусом, обнажая стройные бледные ноги. Шла быстро, не оглядываясь, но всем существом чувствуя его: высокого, ироничного, упрямо шествующего чуть поодаль с философским загадочным видом.
– Море радуется. Вы не обратили внимания? - заговорил, – Тоомас.
– Инна. Нет, не обратила. А с чего ему радоваться?
– Оно встретилось со скандинавской принцессой Инн.
– Инна, - поправила его.
– Но не для меня. Для меня только – Инн. Принесённая в горячие объятия моего сердца, балтийским холодным ветром, под пение восторженных сосен.
– Это ваше поэтическое воображение рисует мираж встречи в несуществующих объятиях?
– Все несуществующее, когда-то материализуется при желании и упорстве.
– Самонадеянны.
– Нет, но уверен в своих желаниях, предпочтениях.
Мне спокойно бродить с тобой,
И с собаками, здесь, по пляжу,
И сливаться в закатном пейзаже,
Как и небу с морской водой.
– Вы поэт? Красиво.
– От твоих волос струится серебряный свет…
– Мы уже на
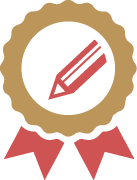













 ПРОЩЕНА!!!!! я и не в претензиях!!!
ПРОЩЕНА!!!!! я и не в претензиях!!!


 Извините.
Извините.  Смеховская-это хорошо!
Смеховская-это хорошо!








 Ничего не слышно... Громче, пожалуйста!
Ничего не слышно... Громче, пожалуйста!