– говорил он, – а профессию надо иметь такую, чтобы кормила не только тебя, но и семью. И кормила нормально. А приданое жены – это на черный день, как неприкосновенный запас, на него зариться не по-мужски».
Но мамочка его уговорила, что дочь, мол, влюблена не на шутку, что парень подает большие надежды, что молодость и очарование сделают свое дело, а все остальное – наживное.
Поженились мы. Папа сделал ремонт в дачном доме и все обговаривал со мной заранее, какого цвета хочу стены, какую мебель. Ну, а я во всем советовалась с Чимарой, потому что его решение было моим.
Получились три большие комнаты: гостиная цвета пыльной розы, как поэтически обозначил мой жених, небесно-лазурная спальня, а третья комната – бархатно-зеленая: то ли будущая детская, то ли кабинет.
Бедная моя мамочка всю свадьбу и плакала, и улыбалась. У Чимары родителей не было, его с малолетства тетка растила. Так эта тетка на свадьбе все в уголке стояла, молилась, и глаз восхищенных с племянника не сводила. А Чимара сиял как солнце в полдень. Ему, видно, и самому не верилось, что будет жить в красивом доме с садом, что жена и теща в нем души не чают и все в его жизни складывается хорошо.
И с этого времени действительно все его дела пошли в гору. Мамочка говорила, что впрок ему пошла женитьба. Победил он на нескольких конкурсах, стали его печатать, приглашать на встречи с важными людьми. И уж не знаю, что ему они там в уши напели, только с тех пор он стал как одержимый. Стал бредить какой-то исторической поэмой, какую непременно должен написать. Из института ушел. Никакие уговоры не помогли. Тетка его плакала, я просила, мамочка моя тоже уговаривала, он ни в какую. Наконец, папа строго так решился сказать, что, мол, неплохо высшее образование иметь, оно еще никому не помешало. Так Чимара прямо взвился:
– Хочу вам всем сказать, что мне в моей судьбе все ясно. Инженерство, архитектура – это все не мое. Только чужое место занимать буду. Я решил посвятить себя литературе.
Взмахнул рукой, будто саблей, и вышел из комнаты.
Пусть Бог меня простит, но хорошо, что Он нам детей не дал! Вначале как-то не до них было, все мысли были о будущей славе и больших гонорарах Чимары. А потом, я уже не хотела… Потому что потом Чимару как подменили. Зеленая бархатная комната, что мы под детскую мечтали в будущем отдать, окончательно его кабинетом стала. И если он там заседал, то есть предавался творческим раздумьям, так все должны были на цыпочках ходить, чтобы не потревожить.
Но вот что я вам скажу. Чем больше он помыкал мной, тем больше это меня обезоруживало. Видно так, мы женщины, устроены: нам надо непременно заботиться о ком-то, нежить, холить. Нам кажется, что человек больше принадлежит нам, если мы привязываем его к себе своей заботой. Мне нравилось ходить за ним, как за малым ребенком, готовить ему бульоны, морсы, менять белье, когда чуть прихворнет, держать весь дом в полумраке и тишине, когда он спит. И я не заметила, как это стало моей потребностью, даже жаждой служения. А когда поняла, было уже поздно.
– Понимаете, друг мой, – голос Кромина становился все глуше и задумчивее, – чем дольше она говорила, тем больше голос ее становился крепче и отчетливее. И такую смертельную обиду я увидел в ее добрых и ласковых глазах, что мне стало жутко. Сильного человека можно обижать сколько угодно, его сила выше обид, они для него как комариный укус, но бойтесь обидеть слабого и тихого. Вот они в тлеющей боли своей не простят никогда. И, заметьте, ни разу в своей речи она не назвала мужа по имени. Только по фамилии или «мой муж».
И еще я с тоской думал, что мне представить редактору. Ведь дураку было ясно, что интервью, или – скорее – исповедь вдовы, ни для какой хвалебно-памятной статьи не годится. А вдова все говорила, ей, кажется, безразлично было для чего я здесь.
– Из своей чертежной конторы он тоже ушел. Сказал, что нам его гонораров и каких-то отчислений с продажи книг и творческих встреч нам хватит. Это было, конечно, глупостью. Иногда, действительно, в доме появлялись деньги, и немалые. Но это было все ненадежно. Они исчезали так же быстро, как появлялись. О том, чтобы я устроилась на работу, не могло быть и речи. Чимара почему-то считал, что жене художника (таковым он себя величал) надо быть музой, хозяйкой литературного салона, мило улыбаться гостям, разливать чай, поддерживать светскую беседу, а работа, приносящая деньги – фи, как это неизящно… Иногда мне казалось, что я ненавижу его… Но – все же проклятая бабья жалость – когда я видела его обезоруживающую улыбку и слышала вот это: «Мунечка, а у нас есть что пожевать?», я готова была шить ночи напролет, чтобы принести в дом лишнюю копейку, или отдать все отцовские сбережения, чтобы Чимара не отказывал себе ни в чем. Что? Да, я неплохо шила, у меня даже появились заказы, но я скрывала это от Чимары: муза не должна заниматься тяжким трудом!
К нам зачастили его друзья. Тоже литераторы, творческие люди, так сказать. Один из них, – я бы назвала его Прислушивающимся, – все время как бы к чему-то прислушивался, то ли внутри себя, то ли вовне. Прислушиваясь, ел за троих, и все равно был вечно худ и голоден. И ходил чуть ли не в последнем тряпье: линялой мятой рубашке, драных брюках, дырявых носках, лохматый, небритый. Не знаю, был ли действительно не от мира сего, или старательно изображал из себя такого, но смотреть на него было неприятно. Однажды я предложила Чимаре купить ему одежду, так муж мой потом со мной полдня не разговаривал: «Ах! До чего же ты приземленная и меркантильная. Неужели ты думаешь, что он возьмет наши подачки? Это его оскорбит!» Ну, и все в таком же духе на десять минут речи. Я промолчала, но почему-то мне кажется, что всю нашу новую одежду он принял бы с бо-о-ольшой радостью.
Второй мне нравился больше. Тоже был худой, одевался без лоска, но при этом не выглядел неряшливым, скорее – неприкаянным. Всегда вежливый, предупредительный, бросался ко мне, чтобы помочь, если я с подносом в комнату входила. А мой муж его отличал больше чем других. Ему первому декламировал части из будущей поэмы, которая должна была быть вершиной его творчества. А поэма все не двигалась. Месяц за месяцем, год за годом. Какие-то стихи писал, публиковал, его хвалили, но вот поэма – «сердце мое», как он говорил, не двигалась. Я по наивности, думала, что сердце его – это я.
А однажды этот второй – Неприкаянный – улучил минутку, когда мой вышел из комнаты и шепнул мне:
– Постарайтесь убедить его, чтобы он оставил эту затею с поэмой. Или пусть поменяет в ней все.
Вообще все: структуру, тему, сюжет.
– Вам что-то не нравится? – спросила я его.
– Не в этом дело, – замялся он. – Понимаете, ваш муж очень талантливый, но для того, чтобы создать поэму, какую он задумал, одного таланта мало. Нужно еще что-то, сам не знаю, но чувствую – надо еще что-то. Может быть чувство меры.
Странный он был, Неприкаянный. Но глаза у него были хорошие. Печальные. Такие глаза бывают у людей, которые чувствуют боль другого человека и не знают, как помочь.
Третий был балагур и пьяница. Если с Прислушивающимся было непонятно, делает ли он вид, или на самом деле такой «неотмирасегойный», то этого я трезвым не видела никогда. Но меру свою знал, во злость никогда не напивался. Всегда веселый, песни пел, стихи на ходу сочинял, шутил без конца. Его так и называли «Экспромтщик». Были еще и другие, но их я не запомнила. Все на одно лицо – тоже творцы…
А потом появилась Она. Как я потом узнала, была бывшей подружкой Экспромтщика, он и познакомил Чимару с ней. Яркая, броская, ничего не скажешь. И тело богатое: пышногрудая, узкобедрая, высокая, с кошачьей грацией. Уж что греха таить, я – женщина, и то любовалась ею.
Мой пропал из дома на месяц, а потом вернулся как нашкодивший кот, стал просить прощения, и говорить, что я должна его понять и простить, потому что ему необходимо были новые впечатления, что он художник слова, и ему для вдохновения, для работы над поэмой нужны страсти.
Я слушала его внимательно, и – честно – ничто не шевельнулось во мне, кроме жалости. «Э-э, – думаю, – видно не ладится у тебя с поэмой, и ты это очень хорошо чувствуешь, поэтому и пытаешься спрятаться за какие-то демонические страсти, впечатления, вдохновения. Все это самообман. То ли ты выдохся, друг мой милый, то ли взялся за гуж, который тебе не под силу, но не получается у тебя создать то, на что замахнулся. А человек ты самолюбивый, слабый, горячий и не без искры Божьей, поэтому и тяжело самому себе признаться в бессилии».
Думаю так, а сама спокойно отвечаю: «Хорошо, будем делать вид перед людьми, что ничего не произошло, но жить с тобой отныне как жена, не буду. У нас есть разные комнаты, вот и разойдемся по ним тихо и мирно. Но разбазаривать тебе наше имущество, а вернее то, что оставил мне в наследство отец – не позволю. Буду выдавать тебе определенную сумму на расходы, но не более. И постоялый двор из нашего дома делать больше не дам».
Сказала, и сама удивилась своему безразличию. Спросите, зачем нужно было жить с ним так долго, а не развестись сразу же, как он начал выкрутасничать? Не знаю… Слаб человек, и много в нем всего намешано, подчас самого противоречивого. И я не исключение…
При этих словах Кромин победно взглянул на собеседника, мол, не забывай трех китов моей философии: тезис, антитезис и синтез! Все в мире держится на единстве и борьбе противоречий!
– Вы бы слышали, какая филиппика обрушилась на меня. Девятый вал гнева и ярости! Я и корова бесчувственная, и мышление у меня торгашеское, и мозги у меня куриные, и что ему вообще от меня ничего не надо, что он лучше умрет на паперти как нищий, но гордый художник. И слюной брызгал, и по столу колотил, и за волосы хватался. Потом демонстративно хлопнул дверью в зеленую комнату и всю ночь там что-то делал, ходил, стучал, рвал бумагу. Наутро, бледный и всклокоченный, промчался мимо меня и ушел из дома. Я позавтракала и заглянула в зеленую комнату. На полу повсюду валялись клочки бумаги. То ли поэму изорвал, то ли еще что… Я подмела, прибрала все, чтобы чисто было к его возвращению. В том, что он вернется, я не сомневалась.
И он вернулся через десять дней. Тихий и какой-то прилизанный. Спросил, есть ли обед. Это было излишне, он знал, что свежий обед в нашем доме есть всегда. Мы сидели вместе за столом в гостиной, и он говорил мне, что многое понял и пересмотрел в своей жизни и отказался от мысли писать поэму, которая вымотала из него все жилы. И, что теперь его мечта – жить со мною в нашем доме и радоваться каждому дню, сколько хватит жизни. Я верила ему, но знала, что это неправда. Я слишком хорошо знала своего мужа: таким, как он, легче отказаться от жизни, чем от упрямой мечты.
Знаете, есть мечты как небесный свод, они возвышают человека, и делают его жизнь прекрасней. Есть злые мечты, они бывают у злых людей. А есть такие, как у моего мужа – они как рак вгрызаются в сознание, и мучают его, но человек не может от них отказаться,



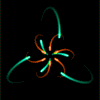









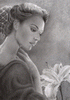

 ) С триадой Гегеля - это мое баловство, конечно, но вообще идея показалась мне интересной. И спасибо безымянному радиоспектаклю в моем детстве, там была представлена примерно похожая ситуация: противоречие творческого (или мнящего себя творческим) человека с окружающими.
) С триадой Гегеля - это мое баловство, конечно, но вообще идея показалась мне интересной. И спасибо безымянному радиоспектаклю в моем детстве, там была представлена примерно похожая ситуация: противоречие творческого (или мнящего себя творческим) человека с окружающими.