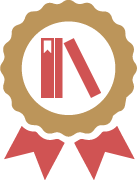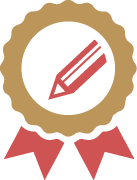Эльф замолчал, словно провалившись в томительную зыбь полусна-полувоспоминаний. Великан выждал с полминуты и тихонько тронул его за рукав. В эти минуты он напоминал ребенка нетерпеливо ждущего окончания сказки.
- И что потом?
Эльф вздрогнул, сбрасывая с себя забытье. В расщелину сухой доски выглянула любопытная голова ящерки и тотчас спряталась обратно.
- Весну почуяла, вылезла, - добродушно протянул Эльф.
- Да, это так, просто. Перепутала месяцы. Холодно еще для них. Вот в мае, повылезают из всех щелей греться. – Великану не терпелось дослушать историю, и он не хотел переводить его на ящерку. – А потом что же?
Эльф пожевал бледными губами и в голосе его появились озорные нотки:
- А, ничего. Обошлось. И знаете, как? После очередной яростной ругани, такой, что чуть искры из глаз не сыпались, убить друг друга были готовы, я понял, что это все. Конец. Что завтра соседка потихоньку наших кур отравит, жена в ответ соседкину кошку, соседка – нашу собаку, потом «нечаянно» наши дети где-то поскользнутся, а там и до «нечаянного» пожара дойдет.
И как представил себе все это, так сразу спросил жену, где соседкино ведро, что она тогда впопыхах у нас во дворе оставила.
- Выбросила! – кричит. - Буду я всякую погань в доме держать!
- Возьми наше (у нас тоже такое было) наполни его морковью и отнеси ей. Ничего не говори, просто положи молча у дверей. Скажи от меня. Только положи на землю, а не швыряй.
- Да, чтобы я? Своими руками. Этой лахудре?! Яду ей надо, а не моркови. Тебе надо ты и иди!
- Делай как говорю.
Великан удовлетворенно крякнул. Ему нравился невозмутимый голос Эльфа. Чувствовалась за ним надежность и уверенность.
- Кричала, плакала, но еле уговорил. Пошла. Я смотрел ей вслед.
Поставила ведерко с морковью у ворот, постучала. Соседка открыла, и пока изумленно хлопала глазами, жена всучила ей ведро в руки, буркнула: «Мой велел отнести» и опрометью домой.
А через два дня, слышим, кто-то стучится в дверь. Я открыл: на пороге соседка мнется:
- Это вам, - говорит и вручает мне авоську отборной картошки сорта «синеглазка». Рассыпчатая такая, вкусная.
Великан кивнул.
- А сама убежала. Жена молчала уже, только фыркала и сопела. Еще через три дня набрал я в огороде свежей зелени: пучки один в один – лук, укроп пахучий, петрушка, редиска молочная нежная. Глаз радуется.
- Отнеси ей немного, - говорю.
Жена уже не противилась, молча отнесла. А еще через несколько дней соседка нам банки какие-то принесла:
- Это, - говорит, - сама летом крутила закуску из помидоров и перца. «Огонек», называется, потому, что острая.
.
Тут жена голос подала:
- Я тоже такую делаю, только мои острое не очень любят, все больше сладкий перец кладу, болгарский.
И, смотрю, затихли обе. Смотрят друг на друга, будто сказать что-то хотят и не могут.
И я тут выпалил:
- Спасибо, соседушка. А ты, чего стоишь? - повернулся к жене. – Посмотри, у нас в кладовке, вроде варенье еще с прошлого года должно быть. Сливовое, вишневое, черносмородиновое…
Сказал и поперхнулся. Думаю, ну, что сейчас будет?
А жена метнулась в кладовку и выходит сияющая. В руках три баночки: янтарное – из сливы-мирабели, рубиновое из вишни-шпанки и темное, бархатное – черносмородиновое.
- Это тебе, - говорит, - и все три банки соседке протягивает.
Та молчит, а потом прослезилась и на шею жене кинулась. Моя тоже носом зашмыгала. Так и стояли обнявшись. А я вышел в огород, пусть их себе поворкуют.
Это уже в конце октября было, и утром от земли пар поднимался холодный, и казалось, снег идет, но только не с неба, а, наоборот, на небо летит. И земля, и деревья, и трава были словно седые и сердитые от холода.
А тут вышел – и глазам не поверил: туман этот белый, что от земли шел, расчерчен радугой. Вот как есть – разноцветные полоски света сквозь него вспыхивали. И весь он этой радугой словно стеганое лоскутное одеяло был прошит. Может солнце на минуту через облака прорвалось, может я как-то так встал, что увидел эту игру света, только хорошо мне стало на душе.
Вернулся домой, а жена мне:
- Чего стоишь, мерзнешь, иди за стол, сейчас чай с вареньем пить будем вместе.
Вот так и сели чай пить с вареньями и оладьями. И соседка с нами. И дружили они с женой потом долго. Мы уже сюда переехали, а они все дружили. До самой смерти.
Эльф, видно, исчерпал запасы красноречия и затих, опять погрузившись в забытье. Великан тоже сосредоточенно думал о чем-то. На соседней скамейке зашевелились, обеспокоенные внезапно наставшей паузой. Но старики молчали и старушечье шипение, вначале тихое, а затем все отчетливей, прорезало вечерний воздух:
- Нет ты посмотри на них? Сидя-ят как бабки старые. Мужчины называются! Тьфу! – заводила бабка побойчей.
- И не говори, - вторила другая.
- И-и, милая, да где ж ты мужиков сейчас найдешь? Сорокалетние смотришь, уж животы отрастили и шаркают как старики,- подхватывала третья. - Вот у меня зять, сорока еще нет, а ходит – словно себя разбить боится. То кости у него болят, то голова. Так и хочется сказать – как же болит то, чего нет?! Да, боюсь, обидится, а дочка мне потом высказывать будет!
Эти разговоры долетали до скамейки Эльфа и Великана и словно разбивались о невидимую стену. Два товарища сидели, погруженные в свои думы и вдыхали вечерний весенний воздух.
Это было счастьем еще подвластным им, счастьем воспоминаний. А если есть это счастье, пахнущее сухим деревом, увядшими розами и нежной печалью, так ли уж важно то, о чем шипят бабки на соседней скамейке?..
Я зарастаю памятью,
Как лесом зарастает пустошь.
И птицы-память по утрам поют,
И ветер-память по ночам гудит,
Деревья-память целый день лепечут.
И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоленья жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит…
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.1