«Если выпало в империи родиться – лучше жить в глухой провинции у моря»1. Эти строки все чаще приходили на ум Кате Даль. Сожалеть приходилось лишь о том, что нет в провинции маленького дома с глухим садом. Да и самой провинции у моря тоже нет… А гордиться… Гордиться много чем… Хотя бы фамилией, не имеющей никакого отношения ни к составителю знаменитого словаря, ни к известному тонколикому артисту, но, тем не менее, бросающей на владелицу тень величия. И именем! Согласитесь, Екатерина Даль звучит неплохо. Даже как-то трубно, фанфарно! Более того, до женщины доходили слухи, что ее, завуча 296-й городской школы, кое-кто на работе называл за глаза Екатериной 4-й, после двух императриц и одной некоронованной, но могущественной Фурцевой.
Только отчество свое – Максимовна – не любила Екатерина Даль. Всякий раз непроницаемо сжимались губы, когда слышала обращение: «Екатерина Максимовна». Не потому что не любила отца. Скорее, наоборот. В сложной этой любви было больше уважения и трепета, чем нежности. И Максим Иванович Даль – доктор военных наук и капитан 2-го ранга был неповинен в прохладной дочерней любви. Да, он боготворил службу больше, чем семью; да, он подчинил домочадцев строжайшей дисциплине; да, жене и дочке разрешалось только отвечать на его вопросы, оставляя свое мнение при себе, но уже взрослая Екатерина была благодарна отцу. Железные принципы и железная дисциплина не раз спасали ее из самых тяжких житейских бурь.И продолжали выносить из затянувшейся видно на всю жизнь бури под названием – «Максим-муж».
Мужа дочери выбрал отец. Непререкаемо спокойно, словно генерал Раевский, приказавший дочери Марии выйти замуж за будущего декабриста Волконского, Максим Иванович объявил свою волю 19-летней Катеньке:
– Сын моего сослуживца. На моих глазах вырос, семья почтенная, достойная.
– Но я его совсем не знаю, ‒ попробовала возразить Катенька.
– Я знаю, – поднял бровь отец. – Не разочаруешься. И, надеюсь, не дашь повода разочароваться в тебе.
Катенька понимала, что на разочарование у нее нет права. Как и на нарушение завета, накрепко вбитого ей в голову бабушкой-татаркой, матерью отца: «Из того дома, куда невестой вошла, и гроб твой должны вынести. Чтобы не случилось, храни семью».
И Катенька хранила. Даже когда от семьи оставались одни пьяные ошметки. Ох, ошибся непререкаемый Максим Иванович в сыне своего сослуживца. И ошибка эта молчаливым укором терзала его: «Своими руками испортил жизнь дочери». Но – охота пуще неволи! – никогда и не при ком капитан второго ранга Максим Даль не признался бы в собственном просчете. Да и железные принципы блюсти следовало тоже железно. Дашь слабину в чем-то – прогнешься и в остальном.
Сослуживец был душой компании, изысканным гурманом, знающим толк в хорошей еде и выпивке. Но его здоровая устойчивая умеренность в возлияниях переродилась у сына в болезненную и неряшливую страсть. Максим-муж не просыхал неделями, потом месяцами. С работы его – талантливого художника-оформителя – уволили. Попытки лечения ни к чему не привели. Дети – мальчик и девочка – выросли и с облегчением упорхнули из проспиртованного родительского гнезда. А Катенька продолжала нести свою службу подле Максима-мужа. Как горько шутила иногда: «В декабристкой ссылке». Только с той разницей, что декабристы были сосланы в Сибирь по политической и потом помилованы царем, а Катина бессрочная ссылка была в страну Пьянию вслед за мужем, и помилования от судьбы тому ждать не приходилось.
А с годами все не стерлось, и не сгладилось, но как бы стесалось. Один за другим ушли родители, оставив в памяти чеканный, тонкогубый профиль отца и мягкие, безропотные черты материнского лица. «Тоже вахту свою отслужила, – мысленно усмехалась Катя, вспоминая неизменно задумчивые материнские глаза, нежные, утешающие руки. Самые прекрасные руки на свете – они и обнимали, и гладили, и утирали слезы после холодных отцовских выговоров. «Отец воспитал волю, а мать душу» – с благодарностью думала Катя, но воспоминания не ранили и не жгли сердце как раньше, и даже сама благодарность стала какой-то равнодушной: «Что же поделать, были и прошли, и мы тоже есть и пройдем».
Максим-муж постарел, мучился панкреатитом, в гневе был страшен и бил домашнюю утварь, потом обливался слезами и молил жену о прощении. Катя равнодушно собирала обломки и черепки, равнодушно прощала: «Чего уж там, мы еще с тобой наживем». Как ни странно, эти слова действовали на Максима-мужа отрезвляюще, он становился кротким, обмяклым и послушно позволял жене уложить его на диван и накрыть пледом. Катя уничтожала следы погрома, выходила из комнаты, заполняющейся храпом, автоматически делала пометки в своих завучевских журналах и понимала, что ни на одно чувство, кроме тихой ненависти к своему отчеству, она уже не способна. Даже звонки и редкие визиты детей и трех внуков не вынимали ее душу из панциря. Не ледяного, не злого, нет. Просто усталого, словно застарелый шрам на коже. Живая ткань, чистая, не кровоточащая плоть, но рубец есть рубец.
В минуты безудержной ярости Максим-муж выкрикивал ей, брызгая слюной:
– Ты даже фамилию мою не взяла! Гонор душил ваш далевский! Куда нам до вас! Никогда меня не любила. Из-за гонора и жила со мной!
В безудержности этой слышалось Кате бессилие. И… правда.
«Может, и прав он, – думалось ей. – Какая там любовь… Максиму-папе подчинилась. А потом на гоноре нашем фамильном, то есть принципах и жила. И детей от него родила. И вырастила их. А он рядом. Пьющий. Но все чувствующий. Человек ведь. Как там у Лескова ‒ «шуба овечкина, да душа человечкина». И вроде не гулял от меня никогда. Да и когда ему – не просыхал ведь. А может и погуливал – какая теперь разница… Все равно.
Гонор далевский… Верно. И фамилия моя мне под стать. Даль. Светлая. Прямая. Одинокая. «На севере диком стоит одиноко/На голой вершине сосна». Что-то меня на стихи потянуло с утра. Начала с Бродского перешла к Лермонтову. Ну, что есть, то есть – педагог русского и литературы. Литература как вбилась колом в мозг, так засела там. А сама как чеховский Беликов – застегнута на все пуговицы».
Последнее было верно и в прямом смысле. Екатерина Даль с детства привыкла застегивать все блузки и сорочки до последней пуговицы, носить водолазки, плотно закрывающие горло, длинные юбки, подчеркивающие, но не облегающие стройную фигуру.
«Как медицинский халат, – снова усмехнулась своим мыслям женщина. – Сбылось-таки папенькино предначертание, хоть и в такой оригинальной форме. Как методично проповедовал, что девушке лучше всего избрать для себя профессию педагога или врача, так по его вышло. Мама раз заикнулась, что, мол, дочка музыкалку на отлично окончила, может, лучше в консерваторию поступать, так он только взглянул на нее, и она больше ничего не говорила. Жаль, немного… Хотя, кто знает. Музыкальную карьеру вряд ли бы удалось сделать, а учитель или врач – верный кусок хлеба. Да и литературу всегда любила. Вот и получилось – училка, завуч в футляре, наглухо закрытый и душой, и телом, словно врач в накрахмаленном, застегнутом на все пуговицы халате. Только колпака, маски и бахил не хватает, а то была бы полная картина маслом!»
Катя налила себе кофе, сделала бутерброд с черным хлебом, маслом и сыром. Любимый завтрак с детства. Для мужа сготовлена овсяная каша, проснется после тяжелого сна, поест. Она еще будет теплая. А ей на работу. Сегодня обход в 9а и 11б. Классы выпускные – проблем много. В 11-х хоть за голову хватайся, половина ребят на занятия не ходит – по репетиторам бегают. Родители вечно капризничают: то им это не то, то им то не так, то мало внимания их драгоценному чаду уделили. Учителя как дети малые: то один, то другой канючит, отпрашиваются, просят их подменить. И за всем она должна уследить, уговорить, пригрозить, прикрикнуть, упросить. Как в шахматах: самая сильная фигура – королева, а самая слабая – король. Директор – круглый, пузыреобразный мужик ‒ только и умеет как напустить на себя умный вид и, сцепив пухлые пальцы на животе, внимать абы кому. Выглядит он, правда, при этом весьма представительно, но на этом все его способности оканчиваются. Другая завуч – огнеглазая, крутобедрая географичка ‒ пожалуй, лучше всего изучила только полюса, экваторы, проливы и возвышенности в директорском кабинете. Катя не поручилась бы, что она точно знает количество материков и океанов на земном шаре. А пожаловаться – упаси Бог! Директор за нее горой стоит; для виду жалобщика послушает, а потом все спустит на тормозах. И ходит географичка по школе с победной зазывной улыбкой на малиновых устах. Действительно, красивых от природы. Не то что ее, Катины ‒ тонкие, сведенные в струночку, папины…
Господи, какая усталость! Сколько еще пахать до пенсии?.. Пять лет. А потом с чистой совестью, ой, душой на свободу! И что? День-деньской с Максимом-мужем – то еще удовольствие. У детей и родственников долго гостить не будешь – не гостевое нынче время, у каждого своя жизнь, правильная-неправильная, но своя, и ей уже не особо есть в ней место. «Если выпало в империи родиться – лучше жить в глухой провинции у моря». Империя под названиями «Жизнь» и «Школа» у нее есть, а вот глухой провинции у моря нет. Даже просто домика, пусть не у моря, но с маленьким садом, в котором только бы и ходила от дерева к дереву, вдыхала прохладный шелковый воздух, сидела бы на рыжей весенней земле и гладила ее руками – нет. Не заработала, не накопила, не смогла.
Что это? Предательски защипало глаза. «Никак начинаем себя жалеть, Екатерина Максимовна? Бросьте! Отцу бы это не понравилось. А, ну встала, одернулась, застегнулась на все пуговицы и вперед!
Черт! Все-таки просочилась слезинка, крохотная, а за ней побежала другая, третья. Вот так и приходит старость – с жалости к себе. Так бы и расслабилась, села и завыла по-бабьи, в голос. Но, нельзя. Напугается Максим-муж, да и лицо распухнет, и на работу еще, чего доброго, опоздаешь.
А проклятые предательские слезы бежали, не останавливаясь, сливались бороздками в полноводную реку, стекали на наглухо застегнутую блузку, в кофе. Играли россыпью огней в лучах весеннего солнца, слепили глаза.
Сквозь шум в ушах вдруг возник мягкий материнский голос: «После дождичка небеса просторней». Это была любимая мамина песня. Часто во время служебных отлучек отца мама пела, не боясь, что ее одернут. Пела низким грудным голосом, отчего казалось: даже стены дома благодарно качаются в волнах ее любви:
После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.
Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия - а поющих нет.
С нами женщины - все они красивы -
и черемуха - вся она в цвету.
Может, жребий нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском











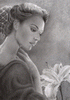


Нужно быть тонким психологом, чтобы так выразительно создать образ ЛГ. Очень удачный рассказ, Ляман!