Ирида открыла окно, осторожно вдохнула морозный воздух, улыбнулась. Она любила эти ясные, холодные дни, когда воздух напоминал замерзшую белую розу. Казалось, только прикоснись, и она разлетится на тысячи осколков. И оставит после себя хрустальный звон долгий аромат. В такие дни Ириде хорошо думалось: голова была свежая, легкая, ясная, и мысли в ней выстраивались в четком порядке.
А выстраиваться было чему. За шестьдесят семь лет мозг оброс мыслями, как корабль ракушками! В первую очередь имя. Она так и не привыкла к нему, хотя любила. Возможно, в память о деде.
Это он, сельский почтальон, книгочей и добряк каких поискать, решительно хлопнул по столу, когда жена, принимавшая роды у дочери, сообщила, что родилась пятая внучка!
‒ Ну, вот и Катюшка, ‒ устало выдохнула жена. Она была местной повитухой.
Считалось, что у нее легкая рука. И действительно она приняла в этот мир больше половины жителей села, и, к счастью, никто еще не покинул его до срока.
Дед медленно стянул с головы кепку, провел ею по лицу, стирая с него не только волнение последних часов, но и надежду на внука, и проронил:
– Никаких Катюшек. Сам назову! – И, схвативши старый орфографический словарь, углубился в чтение. На последних страницах словаря был список мужских и женских имен.
Жена с тревогой наблюдала за ним. Характер своего мужа-чудака, похожего на встрепанного Дон-Кихота, она знала прекрасно. Тот и мухи бы не обидел, но если в чем упрется – пиши пропало! Сильного человека можно переубедить, но если упрямится слабый – лучше отступиться.
– Но-э-ми, ‒ читал по складам дед. – Зла-та, Мла-да.
– Какая еще Ноема, ‒ возмутилась бабка. ‒ Тьфу, я и не выговорю. Чем тебе Катя плоха? Что выдумываешь?
– А всем! – помрачнел дед. Что у нас: дочка Райка, сын Мишка, невестка Зинка, зять Витька, внучки Нюрка, Тоська, Милка, Наташка. Что они видят-то? С утра до ночи в этой земле, в доме толкотятся: огород-дом-хлев-коровы-гуси-куры. Сама много видела? А я? Вся жизнь как лист с куста слетела, а вспомнить: только земля на огороде да пыль от дороги, по которой я почту разношу уже сорок лет. Может, и правду пишут: имя как судьба. Назову как-нибудь по-особенному, может, и судьба у нее другая будет.
‒ А-а-а… ‒ бабка хотела что- то возразить, но муж углубился в чтение. Она махнула рукой и вышла в комнату, посмотреть как дочка и новорожденная.
‒ Нашел! – послышалось ей. – Ирида!
И прибавил радостно:
‒ Богиня радуги по-гречески, то есть. Пусть жизнь ее будет яркой как радуга.
Бабка приоткрыла рот. В расширенных от ужаса глазах читалось: «Что?!!!» Дон-Кихот был решительно настроен отражать удар. Но из комнаты послышался слабый стон:
‒ Мам, мне нравится. А моему все равно будет, какое имя.
И – вековая женская мудрость победила!
‒ А пусть! ‒ воскликнула бабка. ‒ Ирида так Ирида, – и тихо добавила:
‒ Чем бы дитя не тешилось… Я Иркой звать буду.
И пробурчала себе под нос:
‒ Твоему-то, конечно, все равно. Ему всегда все равно. Только и славы, что отец, а ни рыба, ни мясо.
Росла Ирида непоседой-сорванцом ‒ воплотила мечту деда о внуке. Тот надышаться на нее не мог, каждую свободную минуту посвящал Иржику-оторве. Так, любя, называл ее дед, и другие внучки не то, чтобы не существовали для него, но все были словно одинаковые лепестки ромашки, обрамлявшие одно солнце ‒ Иржика. К семи годам умела Ирида рыбачить, лазать по деревьям, держаться в седле, разбираться в грибах и травах и лихо ездить на велосипеде. А читать и писать дед ее выучил в пять лет и все приговаривал:
‒ Учись, Иржик, учись, утруждай голову. Все пригодится. Жизнь ‒ она не зебра. Жизнь ‒ как пестрый ковер. Много нитей сплетено, и все пригодятся, если с умом к ним подойти и все в узор лягут, а узор повторяется, на то и ковер, на то и жизнь. Учись, не жалей ума.
Неизвестно, что вкладывал дед в эти слова, но вспомнились они ей, уже взрослой Ириде, сейчас, когда воздух звенел замерзшей белой розой. И особенно ясным было сознание, что жизнь в любую минуту может разлететься на тысячи хрустальных осколков, и надо поторопиться, чтобы успеть все, что задумано.
Женщина поежилась, закрыла окно, сощурилась и взяла в руки телефон. Не глядя, набрала номер.
‒ Соня, привет. Не занята? Зайди ко мне, будь добра. Дело есть.
Через десять минут соседка Соня-Яйцо уже сидела на кухне и, дымя сигаретой, выслушивала Ириду. Яйцом ее прозвали неслучайно, но незлобивая Соня не обижалась.
‒ Ну, и правда яйцо, ‒ говорила она, глядя на себя в зеркало. – Голова длинная, плечи как у цыпленка, живот вперед как гора, ножки тоже цыплячьи. Чем не яйцо?.. Зачем на правду обижаться?
Все это произносилось так добродушно, что ни у кого не могло возникнуть сомнений: у Сони нет никаких комплексов по поводу внешности. Вдоволь налюбовавшись на себя в зеркало, она констатировала маленькую женскую победу:
‒ Зато такой кожи как у меня ни у кого нет! Гладкая, белая, нежная, как яйцо.
И действительно, лицо у Сони было без единой морщинки и залома, свежее, белое ‒ предмет зависти всех соседок в возрасте сорок плюс.
‒ Везет же некоторым, ‒ цедили одни вслед Соне. ‒ Под семьдесят, а не единой складки-морщинки!
‒ А ты на фигуру посмотри, ‒ мгновенно уравновешивали ненавистную Сонину высоту другие. ‒ Лицо лицом, а фигура – яйцо на ножках! А помада-то какая красная! Даже мусор выбросить, и то напомадится! И возраст не впрок!
Но Соня была так незлобива и так полна какой-то внутренним дружелюбным покоем, что все завистливые ахи-вздохи гасились об нее как зажженные спички о воду. И с таким же легким печальным шипением: «Эх, нам бы такую кожу».
Ирида ценила Соню. И дело было не только в дружелюбном покое, исходящим от Сониного яйцеобразного тела, густого с оттяжками гласных, словно бой старинных часов, голоса. Соня ‒ не только соседка, но и давняя, обвеянная и проверенная всеми ветрами перемен, подруга ‒ была умна тем хорошим добрым умом, который у одной половины человечества зовется деликатностью, а у второй – прозорливостью. Но и та, и другая чаще называют его мудростью.
С минуту Соня-Яйцо сидела как изваяние, и только кольца дыма, уплывавшие одно за другим, напоминали, что сигарету курят. Потом алый помадный рот разлепился:
‒ Ты это серьезно? В самом деле, решила умереть? С ума сошла?
‒ Ум мой при мне и даже больше, ‒ задорно парировала Иржик-Ирида. ‒ А вот дети нет! Ты это понять можешь?
‒ Куда уж мне? ‒ съехидничала Соня-Яйцо. – Мой-то через две улицы живет, инженером в местной конторе работает, каждую неделю его вижу. Где уж мне? Это твои в столице или по конференциям-гастролям в разные страны разъезжают. Большие люди. И чего тебе не хватает? ‒ спохватилась она, и ехидный тон разом слетел с нее. – Трое детей, и все в люди вышли – один в театре танцует, по телевизору его видишь, второй в университете преподает, доктор наук, по конференциям мотается, а дочка–журналист, уважаемый человек, статьи пишет. И семьи у них хорошие, и деточки. Тебя любят, гостинцы шлют постоянно, приезжают. А то я не вижу, или у меня глаз нет?! Тебе ли жаловаться?! Это надо же выдумала: театр устроить ‒ помирать!
‒ Не язви, Сонька, ‒ посерьезнела Ирида. – Да, все так. И дети у нас хорошие, и у меня, и у тебя. Только у тебя один, а у меня трое. И права ты – я их всегда вижу. По отдельности. И никогда вместе. Ты это понимаешь? Помру я, они сороковины-годовщины справят, как положено и все. Разойдутся, и поминай как звали. Не ходят они друг к другу в гости сейчас. В одном городе живут, а не встречаются. Дела, работа, друзья-знакомые, и так год от году. Так после меня и вообще забудут друг к другу дорогу.
‒ И ты решила сыграть в умирающую, чтобы они все вместе собрались? Очень умно!
‒ А чем плохо? Умирала-умирала, а потом вдруг да и выздоровела. Бывает же такое. Зато все соберутся!
‒ Очень трогательно! А ты на «смертном одре» слабеющей рукой благословишь их и вымолвишь: «Дружите, дети мои, и в горе и радости будьте вместе, вы пальцы одной руки», или нет лучше торжественнее: «Вы персты одной длани». Так, что ли?
И Соня-Яйцо затряслась от беззвучного смеха.
‒ Смотри, не лопни, яйцо всмятку, желток протечет! ‒ отбрила Ирида. Женщины не обижались на подколки друг друга, наоборот, бодрились от них: значит, не иссяк еще молодой задор. – Ты позвонишь моим, скажешь, что мол, матери совсем плохо, хочет вас повидать, а дальше мое дело.
‒ И не проси! И меня в свои авантюры не втягивай. Не буду, не буду!
Но надо было знать Иржика-оторву! Когда нужно было, она превращалась в гения дипломатии и уговоров!
‒ Только за ради тебя! Исключительно за ради тебя, ‒ бормотала бедная Соня, – Боже, до чего я дожила, во что я ввязываюсь! Что ты собираешься делать?
‒ Вначале вытащить уже шестую сигарету из твоего рта! Она у тебя уже к губе прилипла, кстати, ее ты не раскурила. Во вторых, два дня поголодаю, тени под глазами появятся, лицо обтянется, и так буду лежать. А ты сообщишь моим, что у меня сердечные приступы один за другим, и что я не хотела их беспокоить, но ты скромно считаешь, что им надо приехать. Всем вместе. Вопросы есть? Вопросов нет! Действуй, боевая подруга!
Соня развернула военные действия строго по инструкции. Ирида-Иржик-оторва оторвалась по полной. Поголодала дня два, после чего вооруженная телефонными номерами Соня принялась за дело.
‒ Толечка! Это тетя Соня! Ты, как? Гордимся тобой, по телевизору видим, ты и маленьким плясать любил! Нет, со мной все хорошо. Вот мама что-то прихворнула. Да, напугала меня, ночью приступ был, и утром потом. «Скорую» вызывали, сказали, сердце сдает. Нет, всего хватает, но так по вас скучает, ой, так хочет вас увидеть.
‒ Аллочка! Как ты, детка? Для меня вы все детки. Все нормально у меня. Мама неважно себя чувствует, так скучает по вам, мне не говорит, но я же чувствую, сколько лет друг знаем. Увидела бы вас, сразу бы на поправку пошла.
‒ Санчик! Привет. Ну, как диссертации-студенты? Хорошо? Ну, так держать. Вот, маме что-то не так, тревожно, сердце сильно прихватило. Хотелось бы ей вас увидеть, да, наверно, дела у тебя, работа. Но ей бы легче стало. Наверно. Нет, не наверно, а точно.
‒ Все сделала? Молодец! Глаза Ириды горели бешеной решимостью. – Ну, да, лицо заострилось. Так и должно быть. За два дня воду пила немного. И не вздыхай так тяжко! На святое дело ради друга идти не грех!
‒ Какое святое дело? ‒ чертыхалась Соня. – Попутал меня черт с тобой связаться! Обман и манипуляция. И гореть мне за это в аду! Какого черта я тебя все время слушаю?!
‒ В ад ты пойдешь, потому черта все время вспоминаешь. Он и думает там у себя в тепле: «Отчего эта любящая меня яйцеобразная женщина еще не со мной? Как страдает, бедняжка, как жаждет меня. Надо поскорей позвать ее».
‒ Сейчас как стукну шваброй по затылку,
В одной старой персидской легенде говорилось о писателе, который, отчаявшись написать что-то новое, отправился бродить по городу. С собою он взял только яблоко, от которого время от времени откусывал. Незаметно для себя писатель забрел в чей-то яблоневый сад. Пораженный красотой деревьев и плодов, он принялся расспрашивать хозяина о секретах садоводства. Старый садовник отнекивался, смущался, но потом все же рассказал и о возделанном им саде, и несколько историй из собственной жизни. Писатель воскликнул: «Ты так хорошо рассказываешь! Напиши все это. Твоими книгами будут зачитываться!» «Нет, дорогой, ‒ возразил садовник. – Какой из меня писатель? Я неграмотный, писать вообще не могу. Лучше я подарю эти истории тебе. Сам опиши их! И пусть они расцветут в твоих книгах». «Чем я отблагодарю тебя?! – в свою очередь воскликнул писатель и, порывшись в карманах, вытащил огрызок яблока. – У меня только это, но тут полно семян и, может быть, ты сможешь вырастить из них второй прекрасный сад?.. «Это лучшая награда для меня, ‒ промолвил садовник, ибо каждый должен заниматься тем, что умеет и любит». И они расстались, весьма довольные собою и жизнью, и каждый создал свой сад.
Свой сад в силах создать каждый. Будет ли он садом цветущих деревьев или садом камней, или садом книг – неважно. Главное, чтобы он был прекрасен и мудр. Тогда притягательность его не иссякнет. Как не иссякнут вечные его истоки – Семя и Слово. Семя падает в землю, рождает жизнь и возносится кроной к небу. Слово падает в сердце, рождает книгу и возносит душу к мудрости. И у семени, и у слова одно стремление – высота. И как малому семени дано родить сад, так и крохотное событие может стать началом рассказа...






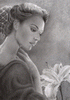


 .
. Обнимаю.
Обнимаю.

