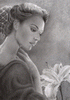Иногда, когда за моим окном кружит мотыльковая ночь и смотрит звездным холодным взглядом, я спрашиваю себя: что есть наше бытие? И сам отвечаю: дорога сквозь темноту, в один конец, без права вернуться. И не остановишься, не обернешься через плечо, не изменишь ничего в прошлом... Как бы этого иногда ни хотелось. Но никто не отправляется в путь с пустыми руками. Бог дает нам свои дары. И если мы их растратим, продадим или потеряем – вина только наша.
А может, дорога и не одна, а множество их – сплетенных, как паучья сеть, и каждый твой поступок - перепутье, каждый новый день – развилка. Куда шагнешь – там и окажешься. Но какую бы тропинку ты ни выбрал – пункт назначения всегда один. И нет, это не могила – туда идти не стоило бы. А что? Не знаю. Может быть, встреча с Ним. И отчет, как мы распорядились Его дарами. А может, новые, неизведанные пути. И не будет им конца.
Два чудесных дара получил я от Создателя – голос и песню. Я, Хендрик Моор, родился болезненным и слабым – таким же и рос. Ни веселым нравом, ни красотой не отличался. Ни какими-то особыми талантами. Разве что музыкальный слух достался мне в наследство от матери-пианистки. Да еще чувство ритма. Помню, совсем крохотным, я ходил по квартире и отстукивал ложкой по батареям «Лунную сонату». И, конечно, как все малыши, я пытался петь. Мне нравилась эта странная щекотка в горле и протяжные звуки. Но тонкий голосок не слушался, и ничего не получалось.
В пять лет меня привезли к бабушке в деревню, потому что мама уезжала на гастроли, папа много работал, и за мной некому было смотреть. Там, из стрекота кузнечиков и лягушачьих трелей, из птичьего пересвиста и тиканья старых настенных часов, из гула взлетающих и садящихся самолетов (недалеко от поселка находился маленький спортивный аэродром), из шума газонокосилки и мурчания бабушкиного кота, из лесной тишины, которая и не тишина вовсе, потому что полна дыханием жизни... Из всех этих теплых летних шорохов и звуков в моей голове соткалось удивительное нечто. Даже не мелодия, а ее предчувствие, как во сне, когда вроде бы и слышишь что-то, а повторить не можешь, да и звучит она каждый раз по-новому. Так родилась моя песня. А может, она просто улучила момент и пришла ко мне с небес по солнечной дорожке? Она была такая... как будто летишь вместе с ветром, расправив руки, словно крылья, и тебя обгоняют опавшие листья, сухая трава, ветки, шишки, шары перекати поля, птицы, звезды... И при этом чувствуешь себя необыкновенно живым. Глупо, конечно, описал, но по-другому не умею. Я мог петь ее с любыми словами или вовсе без слов. Но обычно просто описывал все, что маячило перед глазами. Я пел о том, как зреют помидоры на грядке, как из водосточной трубы в бочку льется дождевая вода, как слеток дрозда сидит в кустах, а кот на ступенях вылизывает блюдце со сметаной. Я мазал бабушке поясницу какой-то вонючей мазью от радикулита, а сам напевал свой немудреный мотивчик, о том, как в окошко струится пыльный свет и муха бьется в стеклянном плафоне с громким жужжанием. И как сухая герань на подоконнике хочет пить. А бабуля изумлялась, как мазь-то хорошо помогает! Вот так чудо-снадобье! Герань, кстати, тоже оживала, распускаясь красными, резко пахнущими цветами, но без воды – не надолго. Но бабушка не разрешала мне ее поливать, говорила: «Не надо, я сама, ты зальешь». А сама забывала. К концу лета и дедушка перестал жаловаться на сердце и словно помолодел лет на десять, распрямился, стал крепче и шире в плечах. «Старость, Хендрик, - бывало, говорил он мне, - это болезнь. Вот увидишь, скоро ее будут лечить. Так что не бойся – побултыхаюсь еще». Что ж, он как в воду глядел. А моя маленькая подружка – бледная девочка с соседней улицы – избавилась от диатеза. Но в тот год никто еще ничего не понял.
Хотя подсознательно люди, наверное, что-то чувствовали. Помню старика-соседа, всего переломанного после несчастного случая. Он жил в такой же, как у нас квартире, только этажом ниже, и каждый день в хорошую погоду выбирался на прогулку, как краб, ковыляя на своих костылях. Страшный, перекошенный, черный, он с трудом добирался до ближайшей лавочки – прямо под окнами, в палисаднике, утопающем в цветах – и падал на нее, и полулежал, подставив изуродованную щеку солнцу. Он радовался, случайно встретив меня во дворе, и просил посидеть с ним.
- Спой, мальчик, - говорил этот бедняга. – Когда ты поешь, мне не так больно.
Я охотно исполнял его просьбу и ликовал в душе, видя, как гримаса муки на его лице сменяется блаженной улыбкой. Я ведь, и правда, думал, что хорошо пою. И даже мечтал, что, когда вырасту, прославлюсь и стану выступать с концертами. Как мама, добавлял я про себя с тайной гордостью. Хотя такой уж известной пианисткой она не была. Что ж, моя мечта сбылась, правда, весьма своеобразно.
Голос мой, в подростковые годы звонкий, хотя и не очень сильный, после ломки сделался вовсе неинтересным. Поэтому, забыв об эстраде, я выучился на слесаря. Мне нравилось возиться с железками. Но петь я продолжал – для тех, кто приходил ко мне и просил о помощи. Для страдающих, искалеченных, тяжело больных. Бывали дни, когда я ни минуты не мог остаться наедине с собой – в мою дверь постоянно кто-то стучался. Дети и взрослые, и немощные старики, они робко переступали мой порог, и в их глазах, как свечное пламя, горела надежда. Кто рассказал им всем про меня, удивлялся я каждый раз, беспомощно разводя руками, и почему они верят в мою силу? Я обычный человек, лишенный каких-либо талантов, простой работяга, не искушенный ни в эзотерике, ни в медицине. Как могу я помочь всем этим несчастным? Но они верили в чудо – и вера их спасала.
А после того, как я пением вылечил ребенка от детского церебрального паралича, и когда об этом написали в газетах, на меня толпой набросились всяческие дельцы и пройдохи или, культурно выражась, менеджеры. И, не успел я опомниться, как контракты были подписаны, сняты залы для выступлений, а мои «целительные сеансы» распланированы на месяцы вперед. Билеты на них стоили недешево. Конечно, и мне кое-что перепадало. А если говорить уж совсем честно, то перепадало немало.
Я помню, как стоял на небольшой, слабо освещенной сцене и смотрел в темноту зала, туда, где тускло расплывались обращенные ко мне лица, а над ними, заполняя все пространство до самого потолка, черными облаками плыла боль. Я обнимал ладонями микрофон, потея от страха, что вот сейчас что-то пойдет не так, и голос мой сорвется или как-то неправильно прозвучит – и эти люди уйдут ни с чем, не получив облегчения. Я чувствовал себя шарлатаном. Я лгал им, себе, самому Богу, что умею делать нечто такое, чего не умеет больше никто. А потом начинал петь, и мой голос обращался в свет, разливался широко и ярко, сиянием изгоняя мрак, и черные облака над нашими головами рассеивались, как дым. Помню глаза исцеленных, слова и слезы благодарности.
И все, казалось бы, складывалось хорошо. Но червячок сомнения подтачивал меня изнутри, и копошился, и будил чуткую совесть. Незадолго до своего взлета я женился на бледной девочке из бабушкиного поселка. Мы ждали рождения нашего первенца и очень волновались. Во всяком случае, я. И если Лара спокойно готовилась к родам, покупала детские вещи, выбирала по каталогу коляску и кроватку с пологом, и ванночку для будущего малыша, то я весь извелся – и чем стремительнее приближался час икс, тем тревожнее становилось на душе. Меня терзал подспудный страх, что я делаю что-то дурное. Хоть и говорят, что дети за отцов не в ответе, кара часто обрушивается на головы невинных. И я сходил с ума при мысли, что могу погубить нашего еще не рожденного сына, что по моей вине он не увидит свет.
Лара, как могла, утешала меня.
- Хендрик, ну что ты переживаешь? Ведь ничего еще не случилось. Почему ты все время ждешь какой-то беды? Ты помогаешь людям – разве это плохо? За что тебя наказывать?
Я упрямо мотал головой.
- Ты не понимаешь... Я торгую божьим даром. Лечить – не плохо. И даже нужно – не зарывать талант в землю, а использовать его для добрых дел. Но нельзя брать за это деньги.
- Почему? – искренне удивлялась она.
Я, как мог, пытался объяснить, но путался в словах, сам толком не понимая, в чем состоит мой грех, что мучает меня и не дает по ночам сомкнуть глаз.
- Этот волшебный голос – не мой... Ну, то есть, он мой, конечно, но он дан мне свыше. Способность исцелять – не моя заслуга. Она дана мне не потому что я какой-то особенный, а просто... – я мялся, - наверное, так звезды встали. Но знаю одно, то, что даром дается – надо даром отдавать. Бог не берет с нас платы. Или берет, но по-другому. Не деньгами. Что ему наши деньги!
Жена улыбалась мне ласково, как неразумному, но любимому ребенку, и гладила меня по лицу.
- Вот именно, Хендрик. Мои руки, мозг и глаза тоже достались мне даром. Но я работаю – и вместе с тобой зарабатываю нам на жизнь. Скоро у нас родится малыш. Ему, как и нам, нужна будет одежда, еда и крыша над головой. Книги, чтобы учиться. Место в хорошем университете. Мы не бабочки и не пчелы, и не можем питаться цветочным нектаром. Мы должны заботиться о ребенке и думать о будущем. В этом мире не бывает ничего бесплатного. Так уж он устроен.
С тяжелым сердцем я соглашался с ней.
Сынишка родился здоровым, и нашей с Ларой радости не было конца. Жена с головой погрузилась в нелегкие, но приятные хлопоты, а я, уболтав, наконец, неспокойную совесть, продолжал выступать перед больными и страждущими.
А потом моя дорога свернула не туда, в гиблое место, в болота и буераки – именно в тот момент, когда я меньше всего этого ожидал. Когда успокоился и не ждал от судьбы подвоха. Я заболел раком горла. После первой же операции у меня полностью пропал голос. Я мог только шептать. А тяжелое лечение надолго уложило в постель. Кто-то переносит химиотерапию легче. Я же буквально разваливался на куски. Но все равно боролся, изо всех сил цепляясь за жизнь, как попавшее под лед животное борется с течением, уносящим его прочь от спасительной полыньи. Жена, осунувшаясь от горя, разрывалась между мной и сыном. А я гнал ее прочь, домой, но не потому что так мечтал об одиночестве. Я тосковал по Ларе, но видеть ее молчаливое страдание было невмоготу.
И дни, и ночи сплелись в бесконечный тошнотворный кошмар. Наверное, это покажется странным, но я не думал о своей болезни, как о наказании, и не терзал себя чувством вины. Не задавался бесконечным и бессмысленным вопросом: «почему я?». А почему бы и нет? Дары бывают разные, и хорошие, и плохие. Наверное, в масштабах вселенной, размышлял я бессонными ночами, нет таких понятий, как хорошо или плохо. Все для чего-то нужно, и не нам решать, какой дар проклинать, а какой принимать с благодарностью. Мы, как звезды, рождаемся и гаснем – но не по-своей воле. Божественная рука зажигает и гасит нас, и сопротивляться этому бесполезно. Мне очень хотелось жить. Любить Лару, видеть, как взрослеет мой сын, встречать рассветы и любоваться закатами. Только это и казалось теперь важным, а все остальное словно побледнело и спряталось в тень, сделалось маленьким и незначительным.
А когда я все-таки проваливался в беспокойную дрему, мне снилось, что я карабкаюсь по отвесной скале, сдирая ногти о камень и хватаясь за чахлые кустики, травинки и островки мха. Эти