- Кто же это тебя так, детка? - растерянно повторяла бабушка, гладя Алёнку то по спине, то по плечам. Из глаз её, не переставая, текли слёзы, а она даже не пыталась их вытирать, потому что было бы это совершенно бесполезным занятием: ну, вытерла бы Софья Андреевна лицо, а оно через минуту опять бы стало сырым…
Алёнка же, не привыкшая к тому, чтобы её гладили и жалели, тоже начала реветь. Но не потому, что ей было больно, а потому что её любимая бабушка сама начала плакать, и это напугало девочку.
После того, как обе немного успокоились, Алёнка со вздохом объяснила бабушке:
- Да меня папка постоянно колотит.
При этом в её голосе не было ни упрёков, адресованных отцу, ни жалости к самой себе. Это была простая констатация факта: колотит родитель – ну и всё. Чего тут удивляться-то? Ничего не поделаешь! Она, Алёнка, уже привыкла.
- За что колотит-то хоть? – не отступалась от своего бабушка. – Ведь на тебе места живого нет! И она вновь принялась целовать Алёнку, прижимать её к себе и плакать.
- Да ни за что, - сказала Алёнка, уткнувшись носом в бабушкин мягкий халат. – Иногда за то, что я игрушки не убираю, иногда за то, что чешки в садике забываю. А иногда… - тут она подняла кверху чёрные блестящие глаза – просто за то, что я девочка.
- За то, что ты девочка? – вытаращила глаза Софья Андреевна, - а кем же ты должна быть?
- Не знаю, - вздохнула Алёнка, отрываясь от фланели, из которой был сшит халат, - наверное, мальчиком.
- Мальчиком? – оторопела бабушка, - как это – мальчиком?
- А вот так, - снова произнесла Алёнка со вздохом. – Папа говорит, что он хотел, чтобы вместо меня родился мальчик. И что я ему совсем не нужна, потому что он меня не ждал.
- Так если бы вместо тебя родился мальчик? – и в голосе Софьи Андреевны прозвучало искреннее недоумение, - он бы стал его любить? Так, что ли?
- Наверное, - в третий раз вздохнула Алёнка. – Он меня не только не любит, а ещё называет дурой. И ещё какими-то другими словами, которых я вообще не знаю.
- Но они плохие, - не допускающим сомнения голосом закончила она и посмотрела большой ушат с ручками, вода в котором совсем остыла.
В тот день Софья Андреевна так и не смогла искупать Алёнку. Ей всё казалось, что любое прикосновение мочалкой, несмотря на то, что та была очень-очень мягкой, причинит девчушке боль. К неописуемой Алёнкиной радости, бабушка разрешила ей просто плескаться в воде. И хотя Алёнка просидела в ушате довольно долго, ей даже не досталось за то, что около табуретки, на которой стоял старый ушат, сначала появились капли, а потом и целая лужица.
Пока Алёнка резвилась с водой, запуская в неё то резинового утёнка, то пластмассовый кораблик, то негритёнка, который, видимо, как раз для купания и был предназначен, потому что в отличие от кораблика, не тонул, бабушка сидела за столом и смотрела словно в никуда.
В её голове никак не могли уложиться простые вещи: как и за что можно было с таким остервенением бить ребёнка - а количество синяков на Алёнкином теле говорило само за себя, - заведомо зная, что в ответ не получишь сдачи.
Она снова вспомнила, как буднично и просто, даже немного апатично, что несвойственно для маленького ребёнка, говорила Алёнка про то, как её наказывает отец. Параллели к этому рассказу Софья Андреевна провести не могла, потому что в их интеллигентной семье действовали совершенно другие законы, когда детей было не принято даже шлёпать. Если шалун входил в раж и начинал озоровать, ему мягко, но настойчиво объясняли, что таким неподобающим образом себя вести не полагается. И такие разговоры-объяснения могли повторяться столь часто, покуда в детской голове не формировался чёткий и правильный стереотип поведения. Такой психологический фундамент закладывался в раннем возрасте, да так крепко, что подрастая, дети уже хорошо понимали, где и как себя надо вести.
А затем, словно молния, блеснул вдруг в памяти Софьи Андреевны случай из далёкого сорок второго года, когда раненый солдат Вано Хинтибидзе выплясывал, отбросив костыль, прямо в коридоре госпиталя. А когда она подошла поближе и строго заметила, что танцы с ранеными ногами есть вещь нежелательная, Вано схватил доктора за плечи, расцеловал на глазах всего этажа и закружил на месте. Софья Андреевна даже рассердиться на него не успела, как Вано поставил её на ноги, сунул руку в карман полосатой пижамы и стал в нём что-то искать. На раненом в ноги рядовом Хинтибидзе пижама, может быть, и не смотрелась так же хорошо, как военная форма. Зато она уравнивала в больничном статусе всех до единого: начиная от солдата и заканчивая полковником.
- Вот! - прокричал, смеясь, Вано, и вытащил из пижамного кармана свёрнутый треугольник, - дочка у меня родилась! Представляешь, доктор? Дочка!!! Смотри, вот мне письмо пришло из дома. Тут всё написано! Читай, ну, читай, пожалуйста! И пока Софья Андреевна пробегала глазами по строчкам, понять которых она не смогла бы ни за что на свете, поскольку письмо с радостной новостью было написано на непонятном ей грузинском языке, Вано опять пустился в пляс, подпевая самому себе и хлопая в ладоши.
Раненые, что собрались вокруг, улыбались и прихлопывали в такт движениям Вано. Пробившееся сквозь окно весеннее солнце, словно радовалось вместе с людьми, тому, что в далёкой Грузии появилась на свет крошечная девочка – дочурка рядового Хинтибидзе, который по этому поводу пел и плясал прямо в коридоре госпиталя, забыв, что несколько недель назад он получил множественные осколочные ранения ног.
Софья Андреевна украдкой вытерла глаза и посмотрела на Алёнку, которой никак не удавалось поставить кораблик на воду. Раньше Алёнка никогда не жаловалась на то, что в родной семье её так безжалостно наказывают. Да Софье Андреевне и в голову не могло бы прийти, что её образованный зять, который недавно закончил вечернее отделение политехнического института, и каждый раз при разговоре старался подчеркнуть, что он теперь не просто какой-нибудь там недоучка, а человек с высшим образованием, мог ударить собственного ребёнка.
- А ты куда смотрела? – набросилась в тот же вечер она на свою дочь, которая приехала, чтобы забрать Алёнку домой. - Муженёк у тебя, оказывается, изверг, а ты всё это время молчала? Знала и молчала? Может, он и тебя потихоньку поколачивает? – не унималась Софья Андреевна, сжимая, кулаки точно так же, как когда-то делала это на войне.
Дочь растерянно оправдывалась, что она целыми днями работает и что ребёнка совсем не видит.
- Как можно не увидеть синяки на теле такой крохи? - заведённая мать уже кричала, не сбавляя громкости. – Ведь даже неопытному человеку сразу стало бы ясно, что дитя лупят чуть ли не каждый день. И куда ты смотришь? А ещё матерью называешься! Вспомни, мы с отцом хоть раз шлёпнули тебя за всю твою жизнь? – гневный голос Софьи Андреевны дрожал, и, казалось, достиг своего апогея.
- В общем, вот что! – и Софья Андреевна с размаху ударила кулаком по клеёнке большого круглого стола, - Алёнку я у вас забираю!
- А сунется сюда твой благоверный, - и её глаза сжались до узких щёлок, взгляд которых не предвещал ничего хорошего, - на его теле будет синяков не меньше, чем на Алёнке.
- Самое же для него оптимальное, - она на секунду остановилась, чтобы отдышаться, - если он… смотается (вместо слово «смотается» было, естественно, употреблено другое, совершенно не характерное для женского лексикона слово, начинающееся так же на букву «с») в свою деревню!
- Так ему и передай! – грозно посмотрев на дочь, проговорила она. И после этого повторно позволила себе нецензурно выругаться, благо Алёнка убежала в соседний подъезд к своему другу Андрею, и слышать, как её бабушка ругается «нехорошими словами», по счастью, не смогла бы.
Дочь молчала, зная, что её мама выполнит свою угрозу, если уж пообещала. И теперь безмолвно стояла, прикидывая в уме, как сказать Виктору, что Алёнка больше с ними жить не будет.
- А ты, - немного успокоилась Софья Андреевна, хотя голос у неё всё ещё не переставал срываться ни крик, - можешь приезжать.
И, выдержав театрально длинную паузу, произнесла по слогам: «По вы-ход-ным». И, чтобы у дочери не осталось ни капли сомнения в том, что она не шутит, по-боевому настроенная бабушка добавила:
- Я из поликлиники завтра же рассчитаюсь. Сама с Алёнкой сидеть буду.
Одно своё обещание – а именно рассчитаться с работы – Софья Андреевна действительно выполнила на следующий же день.
Она непременно исполнила бы и второе обещание – спустила бы с третьего этажа своего зятька, которого в последнее время иначе, как «дебилом» и «шизофреником» не называла, да не замедлила бы сделать так, чтобы он «своими рёбрами пересчитал все до единой ступеньки в подъезде».
Но «зятёк», он же Алёнкин папа, зная, что характер у тёщи железный, а кулаки, должным образом натренированные ещё в военное время, не потеряли своих качеств и по сию пору, приезжать к ней не торопился. Количество рёбер, исходя из курса нормальной анатомии, его очень даже удовлетворяло. И, видимо, его радовало, что они – эти рёбра – пока были в целости и сохранности. Потому что, как он небезосновательно полагал, если бы с их помощью пришлось считать подъездные ступеньки, целым и невредимым не осталось бы ни одно из них. Вот поэтому в доме Софьи Андреевны он не появлялся. Во-первых, лежать в гипсе ему месяц, как минимум, совершенно не хотелось, а во-вторых, по Алёнке он скучал несильно.
Если вообще скучал хоть малость...
Вот так Алёнка и осталась жить у бабушки.
***
… Они шли по ночной улице вместе. Софья Андреевна, которую в час ночи поднял телефонный звонок, и Алёнка в своей длиннополой шубейке из чёрного искусственного меха. Шуба была хоть и новая, но ужасно неудобная. Во-первых, она была жёсткой и постоянно то неприятно тёрла Алёнке запястья, то так же неприятно протискивалась своими искусственными шерстинками сквозь отверстия в шарфе. И тогда маленькой Алёнке казалось, что её кто-то незримо кусает сквозь старый вязаный шарфик. Бегать же в этой шубе было и подавно сущим мучением, потому как шуба была длинной, и не успевала Алёнка как следует разбежаться, как тот час же валилась на заснеженную дорогу, запутавшись в полах столь нелюбимой ею одежды.
Для гуляния во дворе Алёнка обычно надевала старенькое тёмно-красное драповое пальто на подкладке, которое свой первоначальный цвет давным-давно потеряло. И пусть оно не отличалось особой красотой и изысканностью фасона, в нём можно было носиться по улице хоть целый час – такое оно было удобное. А если бы после этого Алёнка влезла на самую высокую в округе горку – ему и это было бы нипочём. Запутаться в пóлах было просто невозможно, потому что Алёнкино пальто уже, кажется, и само забыло в виду своей старости, что было когда-то длинным. Вдобавок оно не претендовало на то, чтобы то кольнуть, то куснуть свою маленькую хозяйку. За время носки драп сделался мягким. А

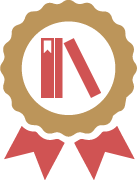
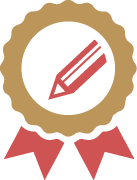







 Жалко вот таких Алёнок. Но они, к сожалению,встречаются в жизни. Перевела на своих внучат. Счастливые они у нас. Живут в ласке и заботе и родителями и дедами.
Жалко вот таких Алёнок. Но они, к сожалению,встречаются в жизни. Перевела на своих внучат. Счастливые они у нас. Живут в ласке и заботе и родителями и дедами. 





Спасибо, Лина!!
Написано замечательно! Тщательно вычитанный текст очень радует