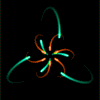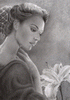В своей замечательной книге воспоминаний «Причуды моей памяти» Даниил Гранин уже в самом её названии напоминает читателям о причудливости человеческой памяти. Но если так можно сказать о воспоминаниях эпизодов взрослой жизни, что, же тогда можно сказать о воспоминаниях детства. Трудно объяснить: почему некоторые эпизоды детской жизни ярко и выпукло остаются в памяти на всю жизнь, затеняя другие, может быть, более важные, а другие всплывают как-то неожиданно, смутно и пунктирно, а потом исчезают, иногда навсегда.
Почему, например, мне на всю жизнь запомнились два солдатика, которые сидели у нас в доме возле остывающей русской печки, размотав свои обмотки и сняв ботинки. Они грели свои озябшие ноги, пекли картошку возле ещё не остывших углей и, плача, что-то рассказывали родителям. Я никак не мог понять: почему они во время войны оказались далеко от фронта в нашем сибирском городке. Кажется, они здесь что-то строили или проходили подготовку перед отправкой на фронт, а, может быть, и то и другое вместе.
Я в первый раз за свою совсем ещё коротенькую жизнь видел, как плачут взрослые дяденьки. Только много позже, вспоминая, как они плакали, по-детски растирая слёзы по лицу, я понял, что вовсе это были не дяденьки, а совсем ещё юнцы, только что вышедшие из детства.
Но больше всего поразили моё детское сознание следующие слова солдатиков. Один из них говорил:
- Скорей бы уж лучше отправили на фронт.
А второй добавил:
- Уж лучше умереть, чем так мучиться.
В свои ещё совсем юные годы мне пришлось уже видеть то, что связано со словом «умереть». Этому способствовала война и в большей части вызванные именно ею условия жизни. Кроме того, с фронта иногда прибывали люди, ранения которых не оставляли никаких надежд на хоть сколь-нибудь продолжительную жизнь и которым уже не могли помочь никакие хирурги. И их отправляли домой, чтобы они могли быть по-человечески похоронены родными и близкими.
И моё детское сознание никак не могло понять, почему это дяденька солдат хочет лежать в гробу, а потом быть закопанным в землю. Этот вопрос терзал меня ещё несколько дней. Я хотел спросить об этом кого-нибудь, но не сделал этого, так как думал, что ответ на этот вопрос знают все кроме меня и боялся, что меня назовут дураком.
И, конечно, в моей памяти не мог не остаться день, который разделил время на «до» и «после» в памяти и сознании миллионов людей.
Необычным он стал в нашей семье с того момента, когда в нашу квартиру ворвалась сильно возбуждённая соседка с какой-то палкой в руках. Она схватила с головы моей мамы красный платок со словами:
- Прости, Ленка, у меня ничего нет такого, - и стала привязывать платок к палке.
Привязав платок, она с криками: «Победа, победа-а-а…» помчалась привязывать этот импровизированный флаг на улице.
Тётка Полениха, - так звали меж собой ребятишки эту соседку, - сошла с ума, - подумалось мне вначале. Но когда я вышел на улицу и увидел, как выбежавшие туда люди были возбуждены, они ликовали, обнимались, радовались и плакали одновременно. И вот тогда я понял, что это закончилась война, и в первую очередь (о причуды детского сознания!) подумал о белой каше, которую я первый раз в жизни увидел у соседей, но не был приглашён попробовать это невиданное никогда кушанье.
Когда я рассказал об этом маме, она улыбнулась, погладила меня по головке и сказала, что скоро закончится война, и все будут кушать эту белую кашу. С тех пор такая каша стала у меня символом прекрасной жизни после войны. И я, действительно, через какое-то время покушал эту белую рисовую кашу и был сильно разочарован.
Последовавшие после дня радости и ликования дни мало чем отличались от военных. Одни наши соседи, несказанно радостные окончанием войны и трепетно ожидавшие возвращения сына, вместо него получили похоронку. Эта печальная весть задержалась где-то в радостные победные дни. Однако, сын мог быть убит уже после победы в ходе боёв по ликвидации немецких военных частей, которые не хотели сдаваться в плен советским войскам, и стремились пробиться с боями на территории, занятые нашими западными союзниками, так как думали, что в плену у советской армии с ними будут обращаться так же, как гитлеровцы с нашими военнопленными.
Вместо раненых и увечных чаще стали пребывать с фронта здоровые люди. Они ходили в военных гимнастёрках, часто увешанных наградами за боевые заслуги. Некоторые из них, обильно отметив по-русски своё возвращение, не могли остановиться, и уходили в запой, ввергая своих близких в ещё более глубокую нищету.
Вообще, послевоенная нищета была ещё долгие годы такая же, как и в военные, то есть глубокая и практически всеобщая, без дворцов-особняков с позолоченными лестницами и унитазами, о чём иногда писали в девяностые и последующие годы журналисты, ещё не привыкшие к такому явлению.
Для нас, детей военных и послевоенных лет, нищета была привычной обыденностью, и мы часто громко говорили или читали о нашей счастливой жизни в Советской стране. Отец моей многодетной семьи, имеющий двуклассное образование в церковно-приходской школе, при этом скептически улыбался, но никогда нас не переубеждал. Да и сам он никогда не видел лёгкой жизни: ни в белорусской малоземельной деревеньке, из которой его в десятилетнем возрасте в рамках столыпинской реформы перевезли родители в Сибирь, где им пришлось тяжёлым трудом отвоёвывать у тайги землю для пропитания, ни в последующие тяжёлые для страны времена с войнами и революциями.
Правда, уже повзрослевшему он мне говорил, что лучшие для жизни годы в этой цепочке невзгод были двадцатые, особенно, в их второй половине до начала индустриализации и коллективизации.
Отец был главным персонажем в том драматическом и очень эмоциональном эпизоде в моём послевоенном периоде детства, который остался в памяти почти в деталях.
Всё началось ранним утром, когда папа уже ушёл на работу, мама решала вопрос о том, чем накормить ораву детей, а мы, то есть эта орава, только просыпались. Неожиданно, в квартиру зашли двое, мужчина и женщина, и объявили маме, что она мобилизована на два дня для отправки в колхоз на уборочные работы.
Мама была в шоке и, показывая на нас, спрашивала: как она может оставить голодных детей без присмотра.
Женщина сочувственно объяснила, что они ничего не могут изменить, так как списки мобилизованных на работы домохозяек составляли в горисполкоме, а им поручено только организовать отправку.
- Все уже ждут Вас, - добавила она.
Я посмотрел в окно и увидел на улице грузовую машину, в кузове которой понуро сидели мобилизованные на работы домохозяйки. Очевидно, мысли большинства из них заняты были об оставленных на два дня без присмотра детях.
- В колхозе не могут вас накормить, возьмите что-нибудь с собой, - ещё добавила женщина.
После этого мама совсем растерялась. Взять что-нибудь на два дня было невозможно. Старшая сестра уговорила маму взять с собой хотя бы хлеб, оставшийся от вчерашнего дня.
- А мы сварим картошки и дождёмся с работы папу, Ты говорила, что он сегодня должен получить зарплату.
Так всё мы и сделали. Но картошечка без хлеба и жира не могла удовлетворить растущие потребности детей. И мы весь день были голодными и с нетерпением ждали отца.
Когда он пришёл, мы, перебивая друг друга, рассказали ему о случившемся. Папа принёс деньги, и всё могло бы разрешиться спокойно, но, на нашу беду, в это самое время висевший на стенке репродуктор вещал о счастливой жизни советских детей и о том, что сам товарищ Сталин постоянно заботится об этом.
И папа взорвался и потерял контроль над собой. Он неистово колотил кулаками в стену и громко кричал, повторяя два слова, первым из которых было «Сталин», второе было неприличным и выражало отношения отца к вождю.
Мы ни разу не видели папу в таком виде и, конечно, были испуганы, не знали что делать, прижались друг к другу и считали, что папа сошёл с ума. Но ещё больше мы боялись, что кто-то из соседей или проходящих людей на улице услышат его крики, и тогда мы можем на несколько лет или навсегда лишиться отца, нашего единственного кормильца.
Но, к счастью, это никто не услышал или из услышавших не нашлось ни одного подлеца, готового доложить об этом «куда надо».
К счастью, продолжалось это совсем не долго. Отец как-то внезапно и резко остановился, повернулся к нам, виновато улыбнулся, подошёл, прижал всех к себе и, потупив глаза, сказал: «Простите меня детки». Он вытащил из кармана деньги и распорядился о том, кому и что делать.
Две сестры, схватив ещё продовольственные карточки, побежали в магазин, чтобы успеть купить, возможно, ещё оставшийся хлеб и чего-нибудь из скудного перечня находящихся тогда в магазине продуктов.
Не знаю почему, но я почти в деталях запомнил то, что мы тогда ели. Покушали мы селёдочку с хлебушком, которая почти всегда была в магазине, но сухая и сильно солёная, так как, очевидно, привозилась с Дальнего востока и хранилась не в рассоле. Поели мы пшённой каши, наверное, с маргарином или вообще без жира, попили чайку, кажется, даже с сахаром, и легли спать сытыми и счастливыми.
Ох, как мало нужно иногда для счастья!
А уже через не очень продолжительное время мы уже твёрдо знали от наших учителей и радио, что у нас скоро наступит самое счастливое детство в мире, и что сам товарищ Сталин лично заботится об этом. Думаю, что если бы тогда было телевидение, то мы узнали бы об этом гораздо раньше.
Однако, мы также знали даже без телевидения, что нашу жизнь, какова бы она не была, защитили в суровой борьбе с жестоким врагом наши отцы и братья, миллионы из которых сами пали на поле боя. И знали мы также, что главным начальником и вождём в этой борьбе был Иосиф Сталин.
В свете этого, уже как-то по-другому вспоминаются плачущие от тягот службы, но стремящиеся на фронт юные солдатики. Наверное, кто-то из них впоследствии дошёл до Берлина, а кто-то пал на поле боя как мой старший брат, ни только успевший закончить школу, но и военное училище, хоть и по ускоренной программе.
| Помогли сайту Реклама Праздники |