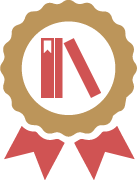От вишневого белого цвета во тьме не темно.
На полмира гремит не привыкший к покою рояль,
И на каждый аккорд всей душой отзывается даль.
Лев Озеров
На двери дома № 46 по улице Т.Костюшко красовалась табличка. Красовалась, потому что по сравнению с серо-голубой выцветшей и выщербленной деревянной дверью была поистине роскошью. Оранжево-золотая, блестящая, она важно распускала свои лучи, и каждый из них будто вещал: «Смотрите, какие мы красивые, какое сияние мы излучаем».
Сама дверь рядом с табличкой выглядела чумазой Золушкой возле нарядных сестер. Ей словно было стыдно за свой затрапезный вид. Впрочем, как знать… Может, втайне она гордилась этой неказистостью, предчувствуя своей деревянной душой, что придет время, когда облупившаяся краска, и скрипучие, потертые доски будут называться броским словом «винтаж». И, что тогда наглая яркость таблички по сравнению с тихим благородством винтажа? Так, кимвал бряцающий!
Сама дверь рядом с табличкой выглядела чумазой Золушкой возле нарядных сестер. Ей словно было стыдно за свой затрапезный вид. Впрочем, как знать… Может, втайне она гордилась этой неказистостью, предчувствуя своей деревянной душой, что придет время, когда облупившаяся краска, и скрипучие, потертые доски будут называться броским словом «винтаж». И, что тогда наглая яркость таблички по сравнению с тихим благородством винтажа? Так, кимвал бряцающий!
Но до признания тихого благородства еще надо было доскрипеть, а пока приходилось терпеть соседство с наглой оранжевой выскочкой. Та же, видно от сознания собственного величия, сверкала еще больше. Крупные золотые буквы на ней извещали мир, что за этой обшарпанной дверью живет профессор музыки Антон Рымник и что он дает частные уроки четыре раза в неделю с 11.00 до 17.00 по классу фортепиано.
Надпись ниже буквами помельче гласила: «Приводить мальчиков на прослушивание с 10 до 13.00 в свободные от уроков дни.
И под этой строчкой совсем маленькими, словно пугливыми буквами вилась надпись: «Убедительная просьба девочек не приводить.»
Во времена нынешние эта фраза могла бы пробудить нездоровые ассоциации, но раньше ничего кроме удивленного интереса она не вызывала.
Когда у достопочтенного профессора спрашивали о причине столь явной «нелюбви» к девочкам, он разражался страстной речью. О, филиппики Цицерона ничто в сравнение с нею!
- Вы не понимаете! - кипятился профессор и короткие волосы его, разделенные безукоризненным пробором «бабочка», начинали смешно топорщиться. – У девочек слабые руки, а музыка, как хлеб, требует сильных рук и точного удара. Лучшие пекари – мужчины, у них руки в мозолях от теста, но хлеб, вымешенный ими, воздушен. Он словно поёт, исходя хлебным духом, и дарит райское блаженство. Такой хлеб не едят, не кромсают, а преломляют и вкушают!
И то же самое с музыкальными инструментами. Послушайте игру мужчины и женщины на рояле, на скрипке, гитаре, на любом инструменте, и вы почувствуете колоссальную разницу! Женщина исполняет произведение, мужчина извлекает голос из самых глубин инструмента, заставляет петь его душу. И не женщина в этом виновата, природа так распорядилась. Руки у мужчин сильнее, и они правят музыкой, как опытные возницы повозкой. Кони сразу чувствуют слабая или сильная рука держит поводья, так и инструмент сразу покоряется крепким пальцам и рождает полный роскошный звук.
- Но, - робко пытался возразить неосторожный собеседник, - ведь есть же инструменты, на которых играют только женщины. Арфа, например…
- Вздор, дорогой мой, вздор! - взвивался профессор. – Это потому что нет мужчин-арфистов. Были бы, - я уверен,- вы сразу почувствовали бы разницу. Музыкант должен управлять инструментом, а не наоборот!
Переспорить его было невозможно. Да и пресекались любые попытки это сделать. Профессор откидывался на спинку стула и начинал опасно раскачиваться на двух его ножках. При этом глядел на собеседника так победно-невинно, что тому ничего не оставалось делать, как замолчать.
Профессор музыки выглядел скорее как офицер германского генерального штаба. Подтянутый, молодцеватый, в безупречно сидящем сером костюме, в сорочке, застегнутой до последней пуговицы, туго затянутом галстуке, он двигался ритмично и четко, словно отсчитывал удары метронома. Лицо его… Впрочем, оно заслуживает отдельного описания.
Есть лица словно живая иллюстрация стихотворной строчки: «Другие как башня, в которых давно/ Никто не живет и не смотрит в окно». Лицо профессора было именно такой башней. Узкое, словно состоящее из одного профиля, с пронзительными черными глазами, настолько маленькими и глубоко посаженными, что запоминался только взгляд, который они метали из глубины глазниц. Взгляд, единственный, оживлял серое пространство лица: тонкий хрящеватый нос, поджатые губы, острый, как тесак,подбородок с неожиданной мягкой ямочкой посередине. А безукоризненно прямой пробор, деливший пепельно-серые волосы на два идеальных полукруга довершали образ - педант-математик, знающий цену словам и действиям.
Ученики от профессора … выли! В прямом и переносном смысле! Методы преподавания были жесткими. Антон Эдуардович не чурался и физических мер воздействия! Особо нерадивые или туповатые ученики быстро знакомились со знаменитой логарифмической линейкой профессора. Стоило им несколько раз запнуться на каком-нибудь трудном пассаже, как линейка со свистом рассекала воздух и опускалась на руки исполнителя. Не слишком больно, но ощутимо. Маленький музыкант глотал слезы, а профессор продолжал невозмутимо отсчитывать такт: «И –раз, и-два, и-три – си бемоль! А теперь сначала! Я сказал: «сначала»! Ученик косился на пожелтевшую линейку, которой профессор размахивал как дирижерской палочкой и снова вгрызался в непослушный пассаж.
Линеечный метод действовал, пока чертов этюд не исполнялся так гладко и гармонично, что профессор прикрывал глаза и расплывался в улыбке. Потом хмыкал удовлетворенно и бормотал, что порой именно битье определяет сознание!
Линеечный метод действовал, пока чертов этюд не исполнялся так гладко и гармонично, что профессор прикрывал глаза и расплывался в улыбке. Потом хмыкал удовлетворенно и бормотал, что порой именно битье определяет сознание!
Когда жена робко пеняла ему на недемократичность, он отрезал непререкаемо:
- Демократии в моем доме не бывать. Потому что! Без всяких потому! Где есть демократия, нет порядка! Где нет порядка, льется больше слез и крови!
От этих слов воздух в доме сгущался как холодец, и казалось, что профессор режет его большими серыми ломтями.
О жестких методах преподавания родители учеников знали, но все же упорно доверяли только Рымнику. Никто как он не мог поставить руку будущим пианистам и привить основы музыкального образования.
- К тому же, - порой вздыхали родители, - с нашими оболтусами только такой строгий учитель и справится. – Одними у-тю-ти-путями всесторонне развитую личность не воспитаешь!
Справедливости ради надо сказать, что методы «ставления руки» тоже были довольно зверские и напоминали старинный жестокий и действенный способ обучения плаванию, когда ребенка пяти-шести лет вывозили на лодке на середину реки и бросали в воду, приговаривая: «Плыви, как знаешь!»
Бедный ребенок с выпученными глазами, захлебываясь от воды и ужаса, что есть сил молотил руками и ногами, пока не доплывал до лодки. Ему давали немного передохнуть и снова бросали в воду. Так продолжалось до тех пор, пока движения не становились уверенными и спокойными. Тогда обучение можно было считать оконченным. Навык к плаванию каменно отпечатывался в мышцах рук и ног, в правильном дыхании и распределении сил.
Профессор Антон Рымник поступал примерно так же! Прослушивание новичка происходило так.
Профессор пристально вглядывался в потенциального ученика и выдерживал театральную паузу. Затем предлагал повторить несложную музыкальную фразу, чтобы проверить слух. Если бледному от страха ребенку удавалось пролепетать нечто похожее, профессор растягивал губы в улыбке и изрекал глубокомысленно:
- Надо думать, что из тебя можно сделать толк. – И дальше, обращаясь уже к не менее перепуганным родителям:
- Ну, хорошо. Я возьмусь сделать из него нечто обнадеживающее. Ваше дитя будет понимать в музыке!
На первом уроке профессор небрежно хватал детскую кисть и бросал ее на клавиатуру.
- Легче! Легче, тебе говорят! Держи руку свободной, все делай легко! Представь себе, что ты бабочка и летаешь по клавишам. Что ты вцепился в них, как клещ в собачью морду? Порхай, лети, музыка – это аэроплан, а не танк! Рука должна ткать мелодию в воздухе, а у тебя она громыхает как ржавый железный шкаф. К музыке надо подходить бережно, предвкушая счастье, и тогда оно откликнется тебе. Ты меня понимаешь? Легче, говорю тебе!! – голос профессора срывался на крик.
Первый год ученичества был для детей сущим адом. Многие не выдерживали, слезно молили родителей забрать их от злодея-профессора и потом забывали музыку как страшный сон. Но те, кто выдерживал год…
О, те, кто выдерживал этот год!..
Пролив океаны слез и, ругая на чем свет стоит учителя, они с удивлением обнаруживали, что руки их обретали волшебную легкость и воздушность. Что худые мальчишеские пальцы, упрямо соскальзывающие с непослушных клавиш, наливались силой и уверенностью. Что глаза, до сих пор напряженно вглядывающиеся в клавиатуру и готовые излиться влагой при каждом окрике, могли, наконец, прикрыться веками и созерцать рождение музыки – самого изысканного чуда на свете. Она ткалась в воздухе невидимыми нитями-звуками, и дивные эти нити создавались ими – бывшими неумехами-учениками.
Учитель слушал такую игру, наклонив голову и держа логарифмическую линейку параллельно лбу. Когда стихали последние звуки и он, и ученик сидели несколько секунд молча, потом профессор вытирал тыльной стороной ладони лоб и объявлял задумчиво:
- Надо думать, из тебя все-таки вышел толк. - Затем кричал в коридор жене: «Чаю нам!» и, подойдя к роялю, произносил коротко:
- Пс-сст!
На профессорском языке это означало: «Прочь от инструмента, теперь я буду играть!»
Такой награды удостаивались немногие и не сразу. Ученика словно вихрем сдувало от рояля.
Играл профессор всегда одно и то же – «Элегию» Рахманинова. Играл так, словно погружался на дно души и плыл в ее звездных глубинах. И с последним аккордом обретал обновленную, омытую звездами душу.
Ученик и супруга профессора слушали завороженно, пока этот последний аккорд не растворялся в стенах.
А потом, профессор, осторожно, словно наощупь, начинал рассказывать о Рахманинове. И с каждой фразой воодушевлялся все больше, словно играл доселе неслыханную и никогда не написанную, но самую прекрасную пьесу композитора.
[justify] - Вот, - начинал он, откашлявшись. - Есть два антипода музыки – Скрябин и Рахманинов. Первый весь в небе, в полете, в