сейчас покажу…
С этими словами в Павле Никанорыче вновь просыпался фокусник! Не то из недр шкафа, не то из кармана, не то вообще из воздуха мгновенно извлекалась и ложилась на стол перед собеседником темная маленькая ложка с облупившейся красной краской и почти стертым узором.
Далее выдерживалась театральная пауза, во время которой собеседнику надлежало пристально вглядываться в артефакт. Наконец, Павел Никанорыч торжественно изрекал:
– Такой была хохломская роспись перед самой войной и во время ее. Ни лака, ни ярких красок, ни хорошей обработки. Видите, сколько на ложке сколов и зазубрин? Это значит, что древесину не обработали как следует. Липа (а вырезают только из нее, потому что самая податливая и мягкая), должна отлежаться года два на открытом воздухе, а потом ее еще на год вымачивают в воде. Только тогда дерево становится нежным как воск. Работать по нему одно удовольствие. И когда вырезают будущую посуду – она еще белая, сырая. Так и называется – «бельё». Это уж потом ее грунтуют, «вОпят» красной жидкой глиной- вАпой, олифят, лудят алюминием и уж только потом по луженому слою кладут узор. А потом запекают в печах. И в них серебристый алюминий сразу становится золотым, а краски узора ярче. А уж потом лакируют, и появляется на свет то чудо, которое вы привыкли видеть. Но в войну какие уж там краски и лак… Самим бы уцелеть. А все-таки люди сберегли древний промысел, не дали ему угаснуть. А досталась мне эта ложка вместе с ножом от попа…
Павел Никанорыч отхлебывал из большой чашки и вещал, словно былинный сказитель:
Так вот, почти все ездили тогда диким образом. А тем более мне, молодому, неженатому еще, недавно окончившему училище, сам Бог велел! А, что?! Приехал, поспрашивал людей на вокзале, кто где сдает комнату или дом, и поехал налегке. И на душе легко – все перед тобой как ладони и думаешь, сколько еще интересных людей встретишь, сколько красоты вокруг увидишь. Когда молод и здоров – кажется, что и мир улыбается тебе.
Сказали мне, что доме номер 4 по улице Демократической хозяин сдает в комнату. Отправился я туда и все диву давался: дома старинные, деревянные, резные, есть и крепкие, есть и ветхие, покосившиеся, а названия улиц все как на подбор революционные: Трудовая, Демократическая, Чкалова, Чапаева.
Добрался до низенького – оконца чуть ли не в землю вросли! – домика, постучался в дверь. Вышел хозяин, и я чуть не отпрыгнул. Поп! Щупленький, горбатый, седенький, хромой. Ряса по земле стелется, а трава около крыльца ему почти по пояс.
Попик словно из допетровских времен выступил – на голове высокая скуфейка и лицо такое строгое, иконописное, востроносое. Спрашивает и упирает на о:
– По какому вопросу пожаловали?
Объясняю все как есть. Он смотрит на меня исподлобья и говорит так, словно тугую шкатулку растворяет – с придыхом.
– Пойдемте, покажу вам комнату. Возьму недорого – 15 рублей устроит вас?
Прикинул я: вроде нормально. Договорились. И тут я заметил, что у него в руках болтается на цепочке вот это самый нож золинген. Не по себе мне стало. А тут еще стемнело, и по полу синие тени пролегли. Половицы старые, скрипят, на них синий сумеречный свет и поп этот с ножом так бесшумно двигается, словно плывет. Честно говоря – похолодело у меня внутри. А хозяин, видно, почувствовал, поворачивается ко мне боком, так что одна сторона лица его освещена была, а вторая нет, да еще и подбородок выпятил – ни дать ни взять Иван Грозный, только низенький, хромой и горбатый! Я напрягся, а он вдруг улыбнулся и снова как тугую шкатулку приоткрыл:
– Нож заметили? Вы не бойтесь. Это память и утешение мое. Друг, можно сказать. – И ласково погладил нож по рукоятке. Садитесь, сейчас чай будем пить. Сахара, извините, нет, не употребляю, а вот мед настоящий липовый – сколько угодно. У меня позади дома улья стоят, так что мед свой.
Говорит так, а сам достает бесшумно самовар маленький, посуду. И тут я только заметил, что посуда у него деревянная. Кроме самовара железного, конечно. Чашки, ложки, тарелки, миски, даже чайник заварочный – все из дерева и украшено вот таким узором. – Павел Никанорыч указал на темную ложку.
Самовар засвистел. Хозяин ополоснул заварочный чайник, всыпал щепоть серого чая с какими-то травами, и накрыл крышкой и полотенцем. Потом куда-то вышел и вскоре вернулся с большой миской меда.
– Угощайтесь. – Он придвинул ко мне чашку с чаем и тарелку. – Берите мед.
Сам он пил мелкими глотками и на висках его выступили бисеринки пота.
– Нож этот мне от ребенка достался. Убило его на моих глазах. Не пожалел меня Бог – довелось увидеть такое... В июне 43-го, когда Горький(1) бомбили и удары пришлись по Сормовскому району (немцы все к заводу «Красное Сормово» подступались) в деревне Монастырка сгорели 80 домов. Разом. Пепелище одно было - черное, страшное.
Мне по сану и вере милостивым полагается быть и милосердие в других будить, но, ей-Богу, никакого милосердия тогда я в своей душе не чувствовал, а только роптал на судьбу, что меня горбом наделила и из-за этого я к военной службе непригоден. И только молиться могу, чтобы отвел Бог беду от нас.
Проходил я как-то мимо этого пепелища и вижу – стоит девочка лет четырех. В белой рубашке и легкой юбочке – лето ведь. Видно, место, где она стояла – было ее домом когда-то и она помнила об этом. У детей память короткая, но крепкая. Не всё запомнят, но если что зацепится в их голове – так уже намертво.
Как забрела сюда и откуда – неведомо. Может, спаслась случайно, гостила у кого-то, а как тут сейчас оказалась – Бог ее знает. И пока я со своим горбом и хромой ногой к ней ковылял, как около нее снаряд разорвался. Я на землю упал, а когда поднялся, ее уже не было. Девочки …
Доковылял я к этому месту, смотрю - в ручке зажата эта самая ложка – видно, ее была. И еще ножик вот этот немецкий. Наверно, кто-то из немцев обронил, а она нашла и таскала с собой как игрушку. Открыть не смогла, по счастью. Хотя какое уже счастье…
И что удивительное – до этого Бог миловал – смерть вот так близко видеть не приходилось. А тут увидел и хоть бы что. Ни слезы, ни крика. Разжал я ей пальчики, взял ложку и ножик. И спокоен был. Никакого страха не было, что снова может снаряд разорваться, и уже меня не будет.
А когда уже дома разглядел на этом ножике две детские фигурки, то зарыдал в голос. И все Бога спрашивал: «Отчего, Ты дозволяешь, чтобы на оружии детские фигурки были, а живые дети погибают? Отчего, Господи? Какой у тебя в том резон?»
Не подобают священнику такие мысли. Не должен он сомневаться в справедливости Божьего промысла. Но я сомневался. Всей душой сомневался, всем существом своим. И не жалел об этом.
А потом, уже после победы, дал себе слово приумножать, сколько хватит сил красоту на земле. Научился по дереву вырезать, киноварью и сажей узор наносить. Только вот блеска нет, ну, да и без него посуда в дело годится.
Ложечку девочки той я сохранил. Не касаюсь ее. Так и лежит у меня в дальнем углу комода. А ножиком и по сей день работаю. Вырезаю в свободное от служб время.
– Помирились с Богом? – спросил я.
Он подумал немного и скривился в улыбке:
– Я же Ему всю жизнь посвятил, куда от этого деваться… Смиряешься потихоньку. Только честно скажу, и Он это знает – не понимаю все равно. Как это можно, чтобы дети вот так ни за что ни про что погибали? Зачем же тогда им жизнь дарить? Сколько умных книг прочел, все пытался сердце свое утИшить, но не понимаю. А теперь уже и поздно пытаться. Стар стал.
Он помолчал и вдруг спохватился.
– Да я вас заговорил совсем. Ложитесь, отдыхайте. Белье я вам свежее постелил, полотенце на спинке кровати, а умывальник и все прочее во дворе, если вдруг ночью понадобится. А я к себе пойду.
И что-то мне подсказывало, что не уснет он до утра, будет истово молиться перед образАми и искать ответа у них, у лохматой ели у окна, у звезды в небе – «За что, Господи, погибают дети?» И не образА, ни ель, ни звезда не дадут ответа.
А наутро солнце наяривало вовсю!
– Вставайте, вставайте, – благодушно ворчал попик, и мне даже показалось, что ряса его стала светлее. – Умывайтесь, сейчас завтракать будем, я рыбы нажарил, лепешек испек, орехи есть, яблоки, мед. У нас места привольные, и Бог осени послал теплой. Успеете по лесу побродить, на красоту нашу полюбоваться. Никогда такого яркого октября не было, как сейчас.
Видно было, что он искренне радуется постояльцу: соскучился по разговорам. Прямо как я сейчас, – хитро щурился Павел Никанорыч.
– И только об одном сокрушался, что я, мол, молодой, и мне с ним скучно будет. А я, наоборот, любил его слушать. Занятный был человек. И вырезать по дереву он меня научил. Все говорил: «Утешением будет. Красоту создавать – в радость»…
Тут Павел Никанорыч надолго умолкал и выпускал в потолок кольцо дыма. И смотрел, как оно увеличивалось, разрывалось и исчезало в воздухе. Собеседнику надлежало почтительно молчать.
– Дружили мы потом с этим попом, – как бы невзначай продолжал Павел Никанорыч. – Переписывались. Многому он меня научил. Как к жизни правильно относиться. Что ценить, а что забыть.
А спустя тринадцать лет получаю я бандероль с адресом: ул. Демократическая, дом 6. И подписано какой-то Еленой Васильевной. Открываю, а внутри письмо и тугой сверток.
В письме написано: «Я соседка вашего знакомого. Батюшка наш завещал вам это послать. Святой души человек был. Всем помогал. Дай Бог ему отдыха в Царстве Небесном». А в свертке - ложечка деревянная, темная, вся в сколах и зазубринах, ножик этот золинген и записка:
«Это самое дорогое, что у меня есть. Вам – на память и в утешение. Сберегите. Храни вас Господь».
Вот и храню с тех пор. И в жизни стараюсь во всем красоту искать. Жизни ведь, в любой момент может не быть. Так зачем же ее раньше времени убивать, судьбу дразнить? Хотя, конечно, унылому все скучно. Ему и писать не о чем, и радоваться нечему, и делать нечего от скуки. Только жить-то тогда зачем? Вы согласны со мною? Не отмалчивайтесь! Скажите, согласны?!
Собеседнику ничего не оставалось, как кивнуть. Мол, действительно, зачем?
И Павел Никанорыч торжествовал. Его правота всегда была незыблемой! Ну, а что против правоты возразишь?..



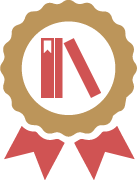


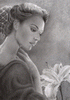







Столько эмоций пробудило повествование - самых разных.
Низкий поклон Вам, кудесница слова!