Когда наступала зима, Миньку отвозили к бабушке. Он, как только совсем холодно становилось, всегда начинал болеть. Особенно мучали его уши. После радостной встречи, объятий и поцелуев, бабушка так и спрашивала его: «Что, милой, опять ушами маешься?» Минька, как выражалась бабушка, действительно, «маялся», и не на шутку. В городе батареи зимой топили плохо, и дома термометр выше шестнадцати градусов не показывал. Поэтому Миньку, пока он ещё не ходил в школу, на все зимних месяца отправляли в деревню. Приезжал он и летом, когда у кого-нибудь из родителей выпадал на этот период отпуск. В общем, как ни кинь, а был Минька в деревне "своим" человеком с пяток до макушки.
Деревенский дом был большой, и русская печка в нём тоже была большая. Миньке доставляло особое удовольствие спать на ней или просто сидеть рядом. Гулять его выпускали редко, да он на улицу не очень-то и просился.
Наполовину деревянный, наполовину кирпичный, с дороги дом выглядел весьма экзотично. Двоюродная бабушкина сестра – тётя Тая – рассказывала, что полностью дом обложить кирпичом не успели, потому что война началась. Конечно, тогда, когда Минька это слышал, война уже давно была позади. Но дом так и остался стоять – спереди кирпичным, а со стороны двора, где были закуты для домашней скотины – деревянным. Своим видом он словно напоминал о тех лихих днях, которые пришлось пережить людям. Миньку, правда, это нисколько не смущало. Места, где поиграть и порезвиться ему хватало. А как только приближалось время ложиться спать, бабушка всегда читала вслух какую-нибудь сказку. Или про семью свою рассказывала, какая она была раньше - большая, дружная и работящая.
Только про войну бабушка говорить не любила. По словам тёти Таи, это было оттого, что война у Минькиной бабушки почти всех родных забрала: родителей, дядю Акима – родного отцова брата, старшую сестру, двух братьев-близнецов и других родственников. Минька плохо понимал, о ком шла речь, потому что тех людей, про которых говорила тётушка, он знал только по старым, наполовину пожелтевшим, фотографиям.
- Ой, хорошо, касатик, отцу-то твоему к началу войны всего-то семь годов было, - неизменно повторяла тётя Тая, - а кабы он постарше был, то и его забрали бы воевать. А там уж неизвестно было, остался бы он живым или нет.
Бывало, что бабушка и тётя Тая, уходили, и тогда они оставляли Миньку одного. Вернее, не совсем одного, а с дедом. У него была своя комната, но Минька в такие моменты предпочитал играть, забираясь на печку. В комнату к деду он опасался заглядывать даже тогда, когда дома помимо него, был ещё кто-то. По его меркам, дед был человеком не то, что странным, а каким-то даже страшным. Он почему-то всегда сидел на кровати в одном положении. Худой и прямой, он напоминал мальчику длинную палку. Когда бабушка входила в его комнату с миской супа или чаем, Минька, разбираемый любопытством, пересиливая страх, иногда заходил вместе с ней. При этом он старался как можно крепче держать бабушку за юбку.
- Отец! – кричала бабушка, наклоняясь к дедову уху, - поешь вот!
И она ставила на небольшой столик деревянную плошку с борщом или рыбным супом и при этом указывала на неё пальцем.
Дед поднимал на бабушку выцветшие глаза, будто что-то пытался сообразить и, окинув взглядом столик, произносил нечленораздельные звуки и махал рукой в сторону двери. Это означало, что бабушке надо было уходить. И она каждый раз уходила, оставляя суп и то, что было в стакане – чай, кисель или компот из сушёных ягод. И Минька, всё так же, не отцепляясь от бабушкиного подола, уходил тоже. Потому что боялся этого непонятного человека, который доводился ему дедом.
А потом проходило время, и из комнаты слышался стук палки об пол: это значило, что старик закончил свою трапезу, и можно было прийти, и забрать, ставшую пустой, посуду.
- Может, тебе картошки ещё принести? Или вчерашней каши? – всё так же, наклоняясь к дедову уху, из которого росли не очень приятные на вид жёсткие белые волоски, снова кричала бабушка. Но тот всегда отказывался. Минька даже не помнил, чтобы дед ел ещё что-то кроме супа.
- А что он ест так мало? – поинтересовался он как-то раз у тёти Таи.
- Хворает он сильно. Как на войне контузию получил – так словно другим человеком сделался, - ответила тётка. - Помоложе был – так всё головой по весне мучился. Болела она у него сильно, так же как сейчас у тебя болят уши. Но тогда он хоть что-то дома делать мог. Где подкрасит, где подремонтирует что-нибудь. А сейчас уж совсем старым стал. Ладно, хоть так живёт, не помирает, - и она, скосив глаза, посмотрела на дверь комнаты, где жил дед.
Минька, который не понял слова «контузия», не решился продолжать разговор, потому что в переднюю вошла бабушка, в руках которой были сорванные с грядки стрелы зелёного лука. Тётя Тая моментально переключилась на какое-то дело, а мальчуган незаметно залез на печку, где, прижавшись к тёплой, сохранившей с ночи тепло, стене, незаметно для себя заснул.
Прошли годы. Минька вырос, и теперь он приезжал к бабушке летом, как только наступали каникулы.
Деда уже не было, но его уход не запечатлелся в памяти мальчика. Как-то раз он, как всегда, перешагнул через порог знакомого с детства дома и с удивлением обнаружил некоторые перемены, которые произошли за время его отсутствия. Например, ему бросилось в глаза то, что на зимней террасе стены были оклеены непривычными для глаз светло-зелёными обоями. А та комнатка, в которую он так боялся заходить, потому что там жил страшный, как ему казалось, дед, теперь принадлежала тёте Тае. Сама комнатка тоже преобразилась. От тёти Таиного присутствия она будто сделалась светлее. Кровати, на которой, как помнил Минька, всегда сидел дед, не было. Вместо неё появился диванчик с двумя мягкими округлыми ручками по бокам. Стол, куда бабушка, бывало, ставила обед, остался стоять на прежнем месте, но теперь его покрывала кипельно-белая скатерка с пришитыми по краям белоснежными кружевами.
- И как ты, тётя Тая, на этом небольшом диванчике помещаешься? – однажды поинтересовался Минька, который перешёл уже в восьмой класс.
- Да очень просто, Мишенька, - улыбнулась тётя Тая, - свернусь калачиком и сплю всю ночь.
- Представляю себе, насколько это неудобно! – искренность сказанного вызвала у женщины слёзы, но она только махнула сморщенной рукой: «Ох, Мишенька! Всю жизнь одни неудобства приходилось терпеть. Нашёл, на что внимание обращать! Да разве же я царевна какая, чтобы на больших кроватях спать?»
Она принесла из соседней комнаты знакомый альбом, подала его Миньке и кивком пригласила присесть рядом с ней.
- Ой, а я вот эту фотографию, кажется, помню, - указал паренёк пальцем на одну, начавшую блекнуть от времени карточку, - только не знаю, кто это.
- Так это же бабушка твоя! – своим тихим голосом засмеялась тётя Тая, - она здесь ещё не замужем.
- Красивая, - покачал головой Минька, - и не скажешь, что была такой молодой.
- Так ведь время, Мишенька, - всё так же вполголоса проговорила тётя Тая, - никого моложе не делает.
- А это кто ещё такой? – удивился Минька, указав на один из фотоснимков, - немец какой-то…
- Всё-таки сунула она в альбом это фото, - качая головой, произнесла тётя Тая. - Говорила ей, чтобы выбросила, а она всё своё: на память, мол, оставлю. В её голосе Минька уловил недовольные нотки и про себя удивился: он с детства не помнил, чтобы старушка хотя бы раз на кого-то осерчала.
- Кто это? – спросил он ещё раз, повернув старый снимок, сзади которого было неразборчиво было написано только имя Hans и стояла дата, которая от времени тоже начала стираться. То ли май 1946 года, то ли октябрь – никак Минька не мог разобрать, крестик там стоял или галочка, обозначающая месяц римской цифрой.
Тётя Тая же, убедившись, что бабушки в доме не было, начала говорить. И узнал Минька, что после войны пригнали в те места немцев, человек триста, чтобы дорогу построить.
Часть из них, кто поздоровее был, спустя какое-то время на завод отправили. Остальных на строительство дороги определили да расселили у местных жителей. Вот к бабушке, тогда ещё совсем молодой женщине, немец по имени Ганс и попал.
- Жил он в сарае, - рассказывала тётя Тая, - и то, почитай, за счастье, ему это было. Летом там тепло, а крыша была почти новая, так что никакой дождь ему страшен не был.
- Аккуратный он такой был, улыбчивый, - продолжала она, - по первости-то всё на своём языке лопотал. Не понимала его слов Нина, так он всё жестами пытался объяснить.
Да разве ей до него было! Он утром уходил дорогу мостить, она тоже работала. Один раз увидела только, что он Егору - папе твоему, то есть - в губную гармошку дал подудеть. Ох, и заругалась она тогда!
- Балбес ты этакий! – кричала сыну, - не смей к немцам подходить! Они наших солдат убивали!
Да подзатыльника отвесила с размаху. Егорка после этого случая начал Ганса сторониться. Дед-то твой с войны не тот момент ещё не вернулся, да никто не знал, жив он или нет. В пропавших без вести он числился.
- А тут как-то раз, - рассказывала дальше тётя Тая, - услышала Нина на заднем дворе странный шум. Думала – воры забрались. Перепугалась страшно, но мысль о том, что в доме находится её ребёнок, пересилила страх. Взяла она тогда нож и вышла из дома. Сначала не могла понять, откуда звуки доносятся. Потом поняла: из кадки с капустой! Там, надо тебе сказать, капусты уже не было. Остался только рассол да жмых кое-какой, в пищу непригодный. Ну, Нина покрепче рукоять ножа в кулаке сжала – и к кадке. Заглянула внутрь - а там, в кадке этой, в одних только брюках, без рубашки и носков, Ганс сидит и то, что на дне осталось, черпает ладонями и быстро-быстро прямо с них хлебает. Увидел он хозяйку, выпрямился, голову опустил, а сам что-то говорит на непонятном языке. Вроде как извиняется, что без спроса в чужую кадку-то забрался, да хозяйку напугал. Нина взглянула на него - и оторопела. С ладоней у него продолжал стекать кислый рассол, к губам кусочки уже потемневшей капусты прилипли. Но такой он худющий был – страх Божий! Одни рёбра торчали. В сарае темно было, но даже в темноте Нине в глаза его худоба бросилась. И совсем мальчишкой он ей на тот момент показался. А он мальчишкой и был. Его, как потом выяснилось, перед самой войной служить призвали, едва восемнадцать стукнуло.
- Да вот только, - произнесла со вздохом тётя Тая, - никакой службы у ихнего брата не вышло, - он и стрелять-то как следует не научился, а сразу в плен попал. Сначала пленных немцев в Сибирь хотели отправить, а потом передумали, что ли – и он в наших краях оказался.
После того, как Нина Ганса в кадке обнаружила, она к нему так плохо не относилась. Наоборот - каждый день старалась молока дать. Он не отказывался, пил. Да всё руку к груди прижимал и кланялся: спасибо, мол. Несколько слов знал по-русски, но в основном на своём языке что-то говорил, да что толку? Не понимали его ни Нина, ни Егор.
- А один раз такой случай произошёл, - продолжала тётя Тая, - занемогла Нина. Температура поднялась высокая, а сбить её нечем было. И доктора позвать было неоткуда. Так она лежала в горячке и мучилась. Егорка-то всё рядом топтался, то воды давал ей, то за руку держал. Всё боялся, как бы мама не умерла у него на глазах. А тут ещё корова недоеная в стойле прямо



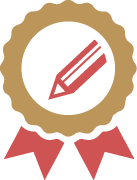















С праздником Победы!