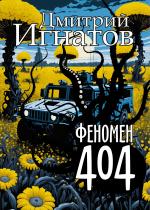7 февраля 1837 года… Пушкин уже принял решение, предопределяющее дальнейшее развитие событий. Уже отправлено письмо барону Геккерну…
И всё потом было так, как было, как известно нам: 8 февраля (27 января по старому стилю) 1837 года состоялась дуэль Александра Пушкина с приёмным сыном барона Жоржем Дантесом (де Геккерном), на которой Пушкин был тяжело ранен, а 10 февраля (29 января по старому стилю) он умер.
Отношение к факту утраты российским обществом и русской литературой Пушкина как поэта и как человека, отношение к дуэльному противнику Пушкина, ставшему убийцей поэта, выразил тогда от имени огромного количества своих современников Михаил Лермонтов, который в том же своём стихотворении определил суть Пушкина как явления в нашей литературе и жизни: «Не мог щадить он (Дантес. – G. Z.) нашей славы, /Не мог понять в сей миг кровавый, на что он руку поднимал». Пушкин – «дивный гений», его убийца – «пустое сердце»… Сожаление о доверчивости поэта, гнев и уверенность в праведном Божием суде по отношению к «клеветникам ничтожным», спровоцировавшим роковую дуэль, – всё это выплеснулось в страстных лермонтовских строках «На смерть поэта».
Но спустя десятки лет, уже в иные эпохи, всё это продолжает тревожить людские сердца и вызывать к жизни строки других поэтов. Варлам Шаламов, Андрей Дементьев, Леонид Филатов – среди тех, кто в наше время пытался осмыслить те трагические события…
Помните стихотворение Варлама Шаламова «Пушкинский вальс для школьников»?
«Зачем он очарован Натальей Гончаровой?»,
«Зачем ему так дорог высший свет?»,
«Зачем ясна погода Романовым в угоду?»,
«Зачем здесь не явился Аполлон?»…
Нарастают сожаления и меняется их характер в зависимости от того, в чём автору упрёков видится причина гибели Пушкина… От упрёков в адрес внешних сил – от виновницы-жены до виновницы-природы – к упрёкам в адрес самого поэта: «Потребовал поэта К священной жертве света, – Не он сейчас потребовал, не он». Не Аполлон – а кто? Зов мести? Зов справедливости и желания наказать тех, порочит доброе имя поэта? Этот зов предосудителен?..
А название стихотворения подсказывает совсем другой смысл.
Все подобные упрёки бесполезны не только в силу того, что прошлого не вернуть. Просто умудрённый жизненным опытом человек, в отличие от только вступающего в жизнь юноши, осознаёт и неодолимую силу обстоятельств, и силу человеческих страстей, и необоримую силу духа и зов оскорблённой чести.
Варлам Шаламов на собственном жизненном опыте познал всё это: и силу обстоятельств, и упрямство человеческого достоинства, отстаивающего себя в любых условиях, путём любых жертв – в том числе собственной жизнью…
Не «свету» (во всяком случае, с собственной точки зрения Пушкина) приносил поэт «священную жертву», а чести, достоинству, любви, семье…
Так способом «от противного» утверждается в стихотворении Шаламова правомерность служения этим идеалам. Надуман конфликт «личная жизнь» – «служение искусству». Искусству служит человек, и если он сам осудит себя за бесчестие, за неспособность противостоять злу в реальной действительности – прав будет он; «творчество важнее» – это уловка, которую никогда не сможет себе позволить человек, руководимый честью…
С этой точки зрения стихотворения Андрея Дементьева и Леонида Филатова, казалось бы, «школьные»… Но они ставят общую для обоих проблему – проблему поведения человека в экстремальной ситуации, когда смертельной опасности подвергается твой друг. Отсюда – непреходящее чувство вины, не снимаемое никакими резонными соображениями, в том числе ссылкой на несогласие самого друга переложить свой долг со своих плеч на чужие...
И потому филатовский Пушкин до сих пор «стоит перед глазами», «рассеянно молчит и щурится на снег»… Он оттуда смотрит на нас в нашей нынешней жизни.
G. Zlenko