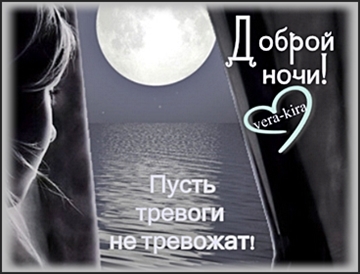Даниэлла смотрела на Эрику, отмечая ее внешность, сегодня тусклую и даже размытую, и напрямую, в свойственной ей манере, спросила, в чем дело.
— Эй, ты подавлена чем-то?
— Не по-настоящему. Так, серединка на половинку. Наверно, из-за погоды и…
Эрика замолкла. Местный климат, вторжение домов в стиле ранчо, то, что ее попросили бесплатно выполнить сложное произведение искусства, — все это слишком знакомо, чтобы объяснить ее настроение.
— И Брайан в отъезде, вот… — она проглотила остаток фразы, вспомнив, что Леонард теперь всегда в отъезде и что, с точки зрения Даниэллы, ей не на что жаловаться. — И дети...
— Дети?
— Утром было трудно с ними. Такие шумные. И грубые. Раньше было удовольствием завтракать с ними, но теперь — что бы я ни приготовила, им все не нравится, всегда хотят чего-то другого. Друг к другу относятся ужасно, и я им тоже не нравлюсь. И они мне не всегда нравятся. Иногда мне кажется, что я их ненавижу.
Эрика засмеялась, чтобы снять тяжесть с заявления, которое она не собиралась делать. То, что она ненавидит собственных детей, было ее самой темной, тщательно охраняемой тайной. Эту тайну она никогда полностью не раскрывала даже Даниэлле. На публике она говорила о детях так же, как и все остальные, с гордой озабоченностью или с шутливым насмешливым отчаянием. Ее знакомые возражали, что, напротив, Джеффри и Матильда всегда самые вежливые (как, по-видимому, они иногда могут притворяться). Затем, в легком, юмористическом тоне, знакомые жаловались на комнату Джона или на отношение Джерри к домашним заданиям, что заставляло Эрику задуматься, не дали ли и знакомые тоже приют чудовищным жильцам. Когда Сьюзен, улыбаясь, говорит, что ее дети «совершенно ужасны», имеет ли она в виду на самом деле, что она в ужасе от них? Когда Джейн восклицает, что ее дочь «безнадежна», действительно ли она потеряла надежду?
— Подросткам нельзя разрешать жить дома. Должен быть закон, запрещающий это, — пошутила Эрика, возвращаясь к принятым правилам поведения.
— Это ты мне говоришь. Вчера вечером, когда мы спорили, что делать с этими грязевыми черепахами, я подумала, как хорошо было бы отдать Ру в заповедник Рид-парк вместе с черепахами, хомяками, хамелеоном и собакой. Они бы жили там все вместе в клетке, и добрые люди кормили бы их через прутья.
Даниэлла, в отличие от Эрики, могла позволить себе откровенно говорить о том, как ужасны ее дети. По крайней мере самой Даниэлле было очевидно, чья это вина: это вина их отца, бросившего их и ставшего причиной их неврозов, так что теперь Ру предпочитала животных людям, включая ее бывшую лучшую подругу Матильду Тейт, а восьмилетняя Селия стала застенчивой и замкнутой.
Эрика рассмеялась:
— Мне бы тоже хотелось иногда посылать туда своих. Обоих.
Она виновато оглянулась на кухонные часы, но они показывали только три часа: еще полчаса Джеффри и Матильды не будет дома.
— Дело не в том, что они мне больше не нравятся, — солгала она. — Просто я не справляюсь с ними. И я знаю, что я сама виновата в том, что они трудные.
— Ты виновата? Почему не Брайан?
— Ну, потому что я мать. Должно быть, я делаю что-то неправильно. Да я и сама знаю, что поступаю неправильно. Например, сегодня утром. Они опаздывали в школу и стали кричать на меня, и я стала кричать на них.
— Черт, все иногда выходят из себя. Ты не можешь быть всегда правой.
— Мм, — ответила Эрика, не выражая согласия.
Ее самое честолюбивое устремление — быть правой: убедительно и непрестанно быть правой. До недавнего времени она и чувствовала себя правой.
— То же самое и с домом. В последнее время, что бы я ни делала, все идет не так, как надо.
Она неловко засмеялась, хотя ей не было смешно.
— Но ты лучшая хозяйка из всех, кого я знаю.
— Нет. Я больше не хорошая хозяйка. Я все время забываю купить моющее средство, забываю выключить в машине габаритные огни и теряю библиотечные книги. Брайан все время спрашивает, что со мной.
— С тобой все в порядке, - изрекла Даниэлла. — Все иногда что-то да забывают. Просто Брайан заставляет тебя чувствовать себя виноватой.
— Не думаю. В любом случае, не сознательно.
— А это и не обязательно должно быть сознательным, — нетерпеливо перебила ее Даниэлла. — Мужчины могут даже непреднамеренно заставить тебя чувствовать себя виноватой, глупой и некомпетентной. Потому что именно такими они считают женщин.
— Мм, — издала осуждающий звук Эрика.
Лучше бы она никогда не упоминала о Брайане. Но уже слишком поздно: Даниэлла снова оседлала своего нового любимого конька — как ужасны мужчины. Эрика представляла себе этого конька как большую серо-белую деревянную клячу на красных качалках, непривлекательную и агрессивно женственную.
— Это правда. И что еще хуже, мы соглашаемся с этим суждением. Они заставляют нас одновременно верить, что мы ничего не можем делать правильно и что во всем виноваты мы, потому что мы чего-то не делаем.
— В твоих устах это звучит как международный заговор, — улыбнулась Эрика.
Даниэлла покачала головой.
— Не нужно никакого заговора. Все это продолжается так много сотен лет, что происходит автоматически.
Даниэлла наклонилась вперед. Эрика представила, как ее подруга подгоняет старую серую кобылу и как жесткие белые волосы и хвост клячи и темная грива Даниэллы неряшливо развеваются на ветру.
— Помнишь, в понедельник я разговаривала с учительницей Селии? Я тебе рассказывала, что сначала подумала, что миссис Шмидт преувеличивает. Ведь Селия не возражает когда ее называют Силли \18\, думала я. Она же знает, что это ласковое прозвище и что никто не хочет сказать, что она глупая, так же, как никто не хочет сказать, что ее сестра Ру — кенгуру. Но вчера я говорила с Джоанной — знаешь, с женщиной, которую я встретила на последнем собрании...
— Мм.
Недавно Даниэлла начала участвовать в собраниях студенческой дискуссионной группы под названием «Женщины за равенство сейчас» — Women for Human Equality Now (WHEN). Брайан называл их Курами — Hen.
— Джоанна сказала, что, если бы Селия была мальчиком, никому бы и в голову не пришло назвать ее Силли. У мужчин не бывает таких прозвищ. Даже в колледже их не называют Бабси \19\ или Даки \20\, как наших подруг.
— Да, — согласилась Эрика.
— Но знаешь, наши имена, твое и мое, не лучше. Это не настоящие имена, это женские уменьшительные от мужских имен. Маленький Эрик и Маленький Даниэль.
— Никогда не думала так о своем имени, — сказала Эрика.
— Я тоже так не думала. Но как только подумала, так меня это злит. Не нравится мне, что меня всю жизнь будут называть Маленьким Даниэлем. Я тут подумала, может, мне стоит сменить имя.
— Какое имя ты бы взяла?
— Сара. Сара — мое второе имя.
— Не знаю, смогу ли я к нему привыкнуть. Я так привыкла, что ты Даниэлла.
— Я тоже не знаю... О черт. Мне нужно идти, Силли скоро будет дома. Я хотела сказать, Селия. Ты права, нелегко отвыкать от привычных имен. Ну, мы придем к вам на ужин. Пока!
Стоя у кухонного окна и наблюдая, как ее подруга уезжает в сырой, холодный полдень, Эрика с раздражением думала о Леонарде Циммерне. Леонарда Циммерна можно было обвинить еще и в том, что он настроил Даниэллу против мужчин вообще, поскольку женщины судят о всех мужчинах по поведению своих мужей.
Но, в конце концов, открытая неприязнь Даниэллы к мужчинам лучше, чем то, с чем выросла Эрика: ложь и уловки, с помощью которых ее собственная мать пыталась справиться с аналогичной ситуацией, отчаянная игра, обман и лесть. Эрика, хмурясь, смотрела на пустой двор. Она уже не часто вспоминала о своей матери. Лена Паркер умерла семь лет назад. Даже когда она была жива, Эрика старалась вспоминать о ней как можно реже. Сейчас она думала о матери так: высокая, стройная, костлявая женщина с выразительным лицом и слегка выпученными глазами, всегда хорошо одетая и тщательно накрашенная, с неординарным характером, умная, но плохо начитанная, импульсивная и чрезмерно эмоциональная. С подросткового возраста Эрика не питала к ней особенной любви. Возможно, что это несправедливо: безусловно, у Лены Паркер были трудности. Возможно, Лена Паркер отомщена, и Джеффри и Матильда — это месть за старую неприязнь Эрики к матери.
Конечно, она испытывала эту неприязнь не всегда. Первые десять лет жизни Эрики были мирными и обыденными. Как Дик и Джейн в книге для младших школьников, она жила с папой и мамой, младшей сестрой и собакой Брауни в красивом доме на красивой улице в Ларчмонте. Все начало меняться в 1940 году, когда папа, мотивированный, возможно, не только политическими симпатиями, но и своим беспокойным характером, завербовался в канадскую армию. В последующие годы он приезжал к ним в Ларчмонт, но все реже и реже. Вскоре он вообще перестал появляться. Его не убили на войне, не объявили пропавшим без вести и даже не ранили — хотя позже Лена Паркер иногда допускала подобные предположения. На самом деле он женился на одной даме в Канаде и уехал жить с ней в Онтарио, хотя прошло некоторое время, прежде чем Лена призналась в этом даже собственным дочерям. Она никогда никому, возможно, включая саму себя, не призналась, что ее бросили в одностороннем порядке. Она взяла на себя равную или большую ответственность за расставание («Гарольд согласился со мной, что было бы лучше...»). Даже сейчас Эрика была не совсем уверена, что развод не был идеей Лены или, по крайней мере, ее тайным намерением.
В любом случае, Лена быстро приспособилась к новой жизни без мужа. Через месяц после развода она устроилась на работу в местный магазин одежды «Манон», через два года стала помощником менеджера, через пять — менеджером. Она выработала особые бурные, несдержанные манеры — наполовину заискивающие, наполовину властные, — которые успешно льстили состоятельным женщинам или запугивали их, что заставляло их покупать одежду. Она научилась внушать, что импортные блузки, шарфы и платья, на которых специализировался магазин «Манон», были одновременно более модными и более вневременными, более изысканными и более долговечными, чем товары американского производства. Она научилась сама верить в это, а также во все, что, в самом широком смысле, это подразумевало.
С течением времени предпочтение, отдаваемое Леной Паркер всему иностранному, росло и расширялось, как экзотическое импортное растение, которое сначала просто выживает, затем расцветает, вытесняет местные цветы и в конце концов перепрыгивает через садовую стену, чтобы стать вредным сорняком. По мере изнашивания, Лена заменила сначала свою собственную одежду и одежду своих детей, затем свои книги и мебель, и, наконец, своих друзей на одежду, книги, мебель и друзей иностранного происхождения. Она начала с того, что усыпала свой профессиональный разговор французскими фразами («Magnifique!» \21\, «Mais non!» \22\) и закончила тем, что говорила по-английски, даже дома, с иностранным акцентом.