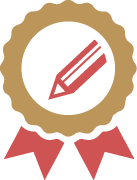Антонову сравнивали с английской королевой Елизаветой. За стиль, достоинство, за жесткость, за умение управлять. За возраст, конечно.
Но наша королева была другой. Жила не в Букингемском дворце, а в обычной панельке на окраине Москвы. Сама готовила и покупала еду. Ухаживала за тяжелобольным сыном. Считала себя социалисткой. И на склоне лет пережила страшное предательство от музейщиков: ее не поддержал ни один, когда она предложила вернуть в Москву музей Западного искусства.
Ирина Антонова говорила, что у нее остались три главные цели в жизни: создать музейный квартал, вернуть музей западного искусства и, главное, - найти человека, который смог бы ухаживать за ее сыном Борисом после того, как она уйдет. Она не успела.
Ирина Антонова была из породы долгожителей. Ее мама умерла в возрасте ста с половиной лет, уйдя тихо и мгновенно, как праведники. Склонилась утром над раковиной, и вдруг - поникла. Наверное, если бы не обстоятельства, так бы ушла и сама Ирина Александровна. Но время распорядилось иначе.
Из всей биографии Антоновой больше всего меня поразил один случай в годы войны. Поезд, в котором совсем молодая Ирина ехала вместе с матерью, попал под бомбежку. Пассажиры в панике бежали из вагонов, чтобы успеть укрыться в лесопосадках. А соседка не смогла выпрыгнуть из поезда и поэтому Антонова вернулась и осталась с ней. Женщина положила голову ей на колени и, пока бомбили поезд, Ирина гладила ее по волосам. Вот и все.
Пожалуй, самое горькое и несправедливое в этом всем - то, что Антонова уходила абсолютно одна. Не нашлось другой такой Антоновой, кто бы остался с ней. Кто бы гладил ее по волосам, утешая перед неизбежным. Она уходила от ковида. Под аппаратом ИВЛ. Не решив последней задачи о сыне.
- Оказавшись перед богом, что вы ему скажете?
- За что ты меня наказал так жестоко? - этот диалог Антоновой с Познером вспоминают многие.
Ее называли нашей королевой, а мы не сможем принести ей цветы. Не сможем сказать перед гробом последнее "спасибо". Прощание с нашей Антоновой пройдет в закрытом формате. Ковид - метафора одиночества.
С детства ее преследовал один и тот же сон. Уходит полк солдат, знакомых и незнакомых людей, последней за ними идет ее мать, а Ирина остается совсем одна. Она кричит от ужаса и просыпается. Почему-то еще тогда она знала, что этот сон сбудется.
Пожалуйста, найдите время и прочтите это послание легендарного Президента Музея изобразительных искусств имени Пушкина ИРИНЫ АНТОНОВОЙ.
«Я думаю, в первые десятилетия XX века закончился огромный исторический период в искусстве, включающий в себя и тот, что начинался Ренессансом. Мы свидетели действительно большого кризиса художественной системы. И этот кризис может длиться не одно столетие, сопровождаясь реминисценциями. На разных этапах это было: от Античности к Средним векам, от Средних веков к Возрождению. И вот сейчас, захватив почти весь двадцатый, этот кризис, вероятно, продлится и весь XXI век.
Меня часто спрашивают, что такое «Черный квадрат» Малевича. Я отвечаю: это декларация — «Ребята, всё кончилось». Малевич правильно тогда сказал, суммируя глобальную деформацию и слом, отражённые прежде в кубизме. Но ведь трудно с этим смириться. Поэтому и началось: дадаизм, сюрреализм, «давайте вещи мира столкнем в абсурдном сочетании» — и поскакало нечто на кузнечиковых ногах. И дальше, и дальше… уже концептуализм, и проплыла акула в формалине. Но это всё не то, это упражнения вокруг пустоты: чего бы такого сделать, чтобы удивились.
Больше того, начиная с XVIII века начался глобальный процесс, который я называю «Гибель богов» — недаром есть такая опера у Рихарда Вагнера. Потому что этот фактор — мифологический — перестал быть главным содержанием и оказывать влияние на пластические искусства. Можно писать «Явление Христа народу» и в тридцатом столетии, но его время, время известного нам великого искусства, кончилось. Мы видим, как разрушается принцип эстетики, духа и принцип идеала, то есть искусства как высокого примера, к которому надо стремиться, сознавая всё своё человеческое несовершенство. Возьмите Достоевского. Его Сонечка в совершенно ужасающих обстоятельствах сохраняет ангельскую высоту духа. Но в новом времени, а значит, и в искусстве Дух становится никому не нужен. Поскольку искусство, хотите вы этого или нет, это всегда диалог с миром.
А в мире и сейчас, и в обозримом грядущем осталась только реальность как стена, как груда кирпичей, которую нам и показывают, говоря: вот это искусство. Или показывают заспиртованную акулу, но она вызывает только отвращение, она не может вызвать другое чувство, она не несёт ничего возвышенного, то есть идеала. Как выстраивать мир вокруг отсутствия идеала?..
Я не пророк, но мне ясно: то, что сейчас показывают на наших биеннале, это уйдет. Потому что консервированные акулы и овцы — это не художественная форма. Это жест, высказывание, но не искусство.
Пока есть — и он будет длиться долго — век репродукций, век непрямого контакта с художественным произведением. Мы даже музыку слушаем в наушниках, а это не то же самое, что слышать её живьём. Но репродукция ущербна, она не воспроизводит даже размера, что уж говорить о многом другом. Давид и его уменьшенный слепок — это не то же самое, но чувство «не то же самое», оно потеряно. Люди, посмотрев телевизионную передачу о какой-либо выставке, говорят: «Зачем нам туда идти, мы же всё видели». И это очень прискорбно. Потому что любая передача через передачу абсолютно не учит видеть. Она в лучшем случае позволяет запечатлеть сюжет и тему.
Постепенно люди отвыкнут от прямого общения с памятниками. К сожалению, несмотря на туризм и возможность что-то посмотреть, новые поколения всё больше будут пользоваться только копиями, не понимая, что есть огромная разница между копией и подлинным произведением. Она зависит от всего: от размеров, материала, манеры письма, от цвета, который не передается адекватно, по крайней мере, сегодня. Мазок, лессировка, даже потемнение, которое со временем уже входит в образ, мрамор это или бронза, и прочее, прочее — эти ощущения окончательно утеряны в эпоху репродукций. Я не мистик, но есть определенное излучение той силы, которую отдает художник, работая над картиной иногда много лет. Это насыщение передается только при прямом контакте.
То же с музыкой. Слушать музыку в концертных залах и её воспроизведение даже на самом новейшем носителе — это несравнимо по воздействию. Я уже не говорю о той части общества, которая читает дайджесты и выжимку из «Войны и мира» на сто страниц.
Вот с этим укорочением, упрощением и обеззвучиванием человечество будет жить, боюсь, долго. Необходимо будет снова воспитать в человеке понимание, что ему необходим сам подлинник как живой источник, чтобы сохранять полноценный тонус эмоциональной жизни.
Власть технологий приведёт к тому, что всё будет исчерпываться получением информации, но будет ли уметь человек грядущего читать глубину, понимать суть, особенно там, где она не явна? Или он не увидит ничего, например, в суриковской «Боярыне Морозовой», кроме фабулы: на санях увозят женщину, поднимающую свой знак веры, а кругом народ. Но почему сани идут из правого угла в левый верхний? Между тем это не просто так, Суриков долго над этим работал и почему-то сделал так, а не по-другому. Будут люди задумываться над тем, почему тот или иной портрет профильный, а не фасовый? Или почему, например, фон просто чёрный?
Чтобы содержание искусства было доступно людям будущего, надо смотреть на великие картины, надо читать великие произведения — они бездонны.
Великая книга, будучи перечитанной на каждом новом этапе жизни, открывает вам свои новые стороны. Я пока знаю тех, кто перечитывает великие книги. Их ещё много. Но всё больше будет людей, кто никогда не станет перечитывать ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Гёте, ни Томаса Манна.
Понимание поэзии тоже уходит. Думаю, в будущем только редчайшие люди будут наслаждаться строками «На холмах Грузии лежит ночная мгла…».
Я не могу предвидеть изменения во всей полноте, как не могла предвидеть интернет. Но знаю, что необходимость в искусстве, вот в этом эстетически идеальном типе деятельности человеческой, снова наберет силу — но мы пока не знаем, в какой форме.
И знаете, из чего я делаю такой вывод? Из того, что люди — вы, я, много ещё людей — они продолжают рисовать пейзажи, писать стихи, пускай неумелые и незначительные, но эта потребность есть. Маленький ребенок всегда начинает рисовать маму — сначала вот этот кружочек и палочки, потом, когда сможет, он напишет «мама», а потом нарисует рядом домик, потому что он в нём живет. Потом он сам сочинит песенку, потычет пальчиком в клавиши и сыграет мелодию. Первобытный человек лепил Венеру с мощными формами, как Землю, которая рождает. Потом она превратилась в Венеру Милосскую, в Олимпию и Маху. И пока у нас будут две руки, две ноги, пока мы будем прямоходящими и мыслящими, потребность в искусстве будет. Это идёт от человеческой природы с начала времен, и всё будет так, если её, конечно, не искорёжат совсем.
А пока не появились зелёные листочки, пока не видно новых Рублёва, Леонардо, Караваджо, Гойи, Мане, Пикассо, так уж огорчаться не надо — человечество создало столько великого, что и нам с вами хватит вполне, и вообще всем.
Так получилось, что моя специальность подразумевает историческое видение. И в истории уже бывали такие моменты, когда всё подходило, казалось бы, к финальной точке, но потом вдруг появлялись новые люди и что-то происходило. На это и следует надеяться. Потому что уж слишком сейчас явственна индифферентность по отношению к искусству.
Культуре не помогают. Не помогают даже умереть. Просто совсем игнорируют. Но многие при этом делают очень умный вид и непрерывно кричат: духовность, духовность. Но нельзя же свести духовность только к религиозному мироощущению. Как нельзя не понимать, что плохое образование, несмотря на интернет, только добавляет хрупкости цивилизации в целом»
Год как жемчуг проверяет нас на прочность.
Когда-то известный ювелир объяснял мне свойства драгоценных камней и металлов.В частности о жемчуге он сказал: " Жемчуг, как и янтарь - удивительная субстанция. Не камень, и не металл. Он -живой. При соприкосновении с человеческим телом он светится и мерцает.
Но ничто так, как жемчуг не проверяет человека на стойкость. Он способен вначале отобрать всю энергию, человек, носящий его, может почувствовать себя неважно, даже плохо.
Но если он выдержит недомогание, жемчуг возвратит ему все сторицей. К человеку вернется хорошее самочувствие, и красота, и душевная сила.
Жемчуг, словно необъезженный конь. Пока не объездишь, норовит скинуть тебя, вышибить из седла.
Но, если выдержишь, становится покорным как овечка."
Все же хочется надеяться на лучшее. Что год, отмутузив и отвалтузив человечество, как тузик грелку, все же разожмет свои ковидные челюсти, и даст возможность в следующем году хоть немного вздохнуть. Без маски.
Но пока он еще куражится, собирая страшную жатву. Потери, потери... Уходят те, при которых жизнь казалась незыблемой и прочной, ясной и понятной. Уходят столпы.
Одна из самых тяжких потерь этого года - Ирина Антонова - директор и затем Президент Музея Изобразительных искусств имени Пушкина.
Самое любимое место в Москве для меня. Всегда, в каждый свой приезд в столицу я непременно ехала на станцию метро Кропоткинская. С замиранием сердца поднималась по ступеням, устланным красным бархатом. Это был не просто музей. Это было царство настоящей поэзии.
Как-то мне даже довелось увидеть его Хозяйку. Правда, издали. Маленький царственный силуэт в ореоле снежно-белых волос. Словно нимб над головой...
Мне кажется, что человек в конце концов остается с теми, кто его любит. Даже не с теми, кого он любит (такое бывает нечасто), а с теми, кто не мыслит своего существования без него.
Она посвятила себя музею, и, пожалуй, он был единственным, кто любил ее по настоящему. Она была его Хозяйкой, без нее музей лишился своей души.
В ее случае — думаю, все же счастливая судьба. И она любила его. Свой музей. И осталась с ним.
Далее привожу полностью заметку, которую мне переслали по почте. Можно, конечно, было бы написать написать об Антоновой самой, но, лучше чем написали о ней в этой заметке, и лучше, чем написала она сама в своем послании, пожалуй не скажешь.